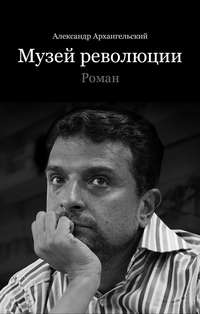
Музей революции
То ли это странное самоубийство, то ли приближение войны, но что-то помешало выполнить Постановление. Профилакторий вывезли, земли по всему периметру обнесли глухим забором, но про музей как бы забыли – и вспомнили уже в хрущевскую эпоху. Сняли проволоку, во флигельке устроили временную экспозицию: «Революцией мобилизованный и призванный. П. Б. Мещеринов и редакция ленинской «Правды». А на закрытой территории построили Дом Выходного Дня для сотрудников административно-хозяйственного управления КГБ.
Сотрудники АХУ музею помогали, подключили к собственным коммуникациям, приходили на субботники. Мальчики, остриженные под полубокс, подметали метлами дорожки; добропорядочные девочки протирали тряпочками стекла. Женщины рыхлили клумбы, мужчины занимались столяркой; разогревшись от работы, оставались в белых нижних майках и рубахах. А потом все вместе дружно пили чай и говорили про историю.
Что же до Мещеринова-Последнего, то после гражданской войны он сумел перебраться в Финляндию и поселился в малом выборгском имении. Опростился, завел пивоварню, поставлял отборный табак в Упсалу и Турку. Однако семейную страсть к собирательству книг и театру сохранил. Когда великий архитектор Аалто появился в Выборге, граф заказал ему проект усадебной библиотеки, с театральным секретом. Смещался боковой рычаг под нижней полкой, шкафы приходили в движение, разворачивались задниками, пол начинал вращаться, с потолка сползала бархатная завесь, и библиотека превращалась в сцену. Бродячие актеры, шведские, финские, русские, регулярно давали спектакли; выборгские пивовары и торговцы табаком смотрели Верхарна и Гамсуна, их многомерные жены обмахивались веерами; сюжеты были непонятными и мрачными, но все оставались довольны. После спектакля актеры напивались и буянили в сосновом парке; крики и взвизги прорывались сквозь всплески ледяного моря.
Шомера назначили директором в январе семьдесят пятого: к юбилею первой русской революции временную экспозицию оформили как постоянное собрание, расконсервировали главный дом. Он провел ревизию и ужаснулся: ничего не сохранилось! Вообще – ничего. Все нужно сочинять с нуля. Взял командировку в Выборг: вдруг найдется дедовская машинерия? Но после возвращения советской власти дом покойного Мещеринова отдали комендатуре, библиотечный флигель разбили на барачные клетушки и заселили семьями военных; деревянные шкафы пошли на растопку, металлические шестеренки приспособили к разным хозяйственным нуждам.
Тогда упрямый Шомер заказал по чертежам аутентичные копии и начал восстанавливать театр.
2
Павлу предстоял приятный путь домой, по легкому снежку, с ухающими спадами, резкими взлетами. Только нужно было заскочить к одной старухе. Она давно хотела передать в музей коробки с негативами, которые остались от юродивого, дяди Коли. В последние два месяца старуха им названивала постоянно; в трубке раздавался ломкий, свежий голосок, как будто говорил состарившийся ребенок.
– Здравствуйте, я Анна Леонидовна, батюшка благословил передать вам его фотографические снимки, когда бы вы могли заехать?
– Благословил – когда? На снимках – что? история усадьбы?
Старушка мялась.
– Давно благословил. Там в основном другое. Вы сами все увидите.
Ей увертливо пытались объяснить, что лучше обратиться в областной архив, хотите адрес? телефончик? в музее разбирать коробку некому, негативы пропадут, раскиснут, жалко. Старушка слушала, не перебивала, но как только собеседник пробовал проститься, непреклонно говорила: батюшка благословил успеть до смерти, мне уже восемьдесят семь, и я вам завтра позвоню, а вы, пожалуйста, запомните мой телефон.
В конце концов она пробила настоятеля, отца Бориса. Тот сдался, начал уговаривать директора. Напирал на совесть, на музейный долг, чувствительно рассказывал историю вертепа. Мещеринов-последний заказал его на Рождество тринадцатого года: как человек бездетный, он любил порадовать крестьянских деток. Уходя на фронт, завернул вертеп в восковую бумагу, чтобы тот не сгнил; Крещинер обнаружил игрушку в подвале и страшно обрадовался: это же кошачий домик! Он постелил рогожку, на тросиках подвесил жамканные бумажки, чтобы кошки, развалясь на спинах, били лапами. Но блаженство продлилось недолго, коты вертеп пометили; попытки оттереть его вонючим коричневым мылом ни к чему хорошему не привели, на старый запах наслоился новый, щелочной.
Пришлось отправить вертеп на помойку.
Юродивый узнал об этом, вытащил, проветрил на морозе, что-то в том вертепе усовершенствовал и потом – внимание! – таскал с собою всю оставшуюся жизнь. Перед смертью отдал ученице, Анне Леонидовне. И она – представьте! – сорок лет его хранит, мотается с квартиры на квартиру. Одинокая, неприспособленная женщина.
Шомер слушал и отнекивался, снова слушал. И в конце концов не выдержал. Согласился взять коробку. Но поставил батюшке условия. Во-первых, если вы такие добрые, пусть фотографии хранит и разбирает ваша помощница Тамара Тимофеевна. Та, которая вся в черном, из компьютерного, и еще на полставки экскурсоводом. После рабочего дня. И никаких намеков на отгулы. А во-вторых, вертеп. Пускай отдаст вертеп.
И глаза у Теодора загорелись.
3
Вот ее домишко. Трехэтажный и приземистый, скругленные боярские окошки, обложенные узорным кирпичом. Размазанная наспех штукатурка вздулась пузырями и осыпалась, обнажился темный остов. Окна мшистые, вдоль крыши и на подоконниках висят пещерные сосульки. Дырявый снег под окнами похож на прокисшее тесто.
Павел потренькал звоночком.
– Войдите!
Дверь была не заперта; Саларьев вошел, огляделся.
Он часто заезжал к наследникам, решившим распродать остатки прежней роскоши: обычно это были мрачные квартиры, заросшие антиквариатом. А в этой комнате, просторной, выбеленной, без перегородок, с темными потеками на потолке, не было ни книг, ни антикварных штучек, только в дальнем углу стояли толстые картонные коробки, прикрытые холщовой тканью. В центре – голландская печь с обколотыми изразцами и огромная кровать с резными завитушками на спинках. Возле кровати – деревянный стул, на нем большой транзисторный приемник и старообразный телефон. Беленая печка нетоплена – гриппозное тепло идет от батарей; в перине утонула крохотная, ветхая старушка. Так лежат младенчики, со всех сторон обложенные валиками, чтобы не скатились.
Бабушка хотя и восковая, но улыбчивая.
– Проходите, сделайте милость, – бодро сказала старушка, и непонятно было, как в таком усохшем теле может сохраняться юный голос. – Обувь не снимайте, пол холодный.
– Здравствуйте, – ответил Павел.
Посмотрел на бабушку внимательно, и понял, что она не улыбается. Просто кожа обтянула скулы, приподняла уголки губ. Впрочем, на пергаментном, уже немного не отсюда, личике сияет восторг первоклашки.
– Вас Павел зовут, правда ведь, Павел? Вы не стесняйтесь, осмотритесь. Из окна прекрасный вид. И поближе подойдите, ладно? Если вы не против.
Павел был не против. Лучезарная, но цепкая старушка с некой затаенной гордостью метнула глазами в сторону печки. В глубокой нише, перед медным складнем, утешительно горела синяя лампадка. Конечно, у лампад такое свойство; стоит их зажечь, особенно в сумрачном месте, и сразу возникает ощущение покоя. Бесплотный огонь, спрятавшийся в толстое стекло. А все равно сейчас ему казалось, что лампада въедливой старушки – не такая, как в покоях у епископа Петра. Более домашняя и смирная.
Говорить не хотелось. Хотелось молчать и смотреть.
Старушка глубоко вздохнула, набрала побольше воздуху. Ну, сейчас начнет вещать о Боге! станет скучно. Но вместо этого она заверещала, как девчонка после школы – вперемешку обо всем, наматывая темы друг на друга, как нить на бесконечное веретено.
– А? вы видите, как светит? Это от владыченьки осталось. А вы историк? Я была когда-то горным инженером, представляете? а потом уже стала келейницей. Так вы историк?
– Я историк.
– А что заканчивали? Вы не заварите нам чаю? если можно! я вас разговорами не замучаю, не бойтесь, обещаю. Четверть часика поговорим, и отпущу. Там, на полу, у подоконника, и заварочный, и баночка, и сахар? Вот спасибо. И хорошо, что все-таки приехали. Так что же происходит с Арктикой? Вы в курсе, что там за история? Знаете, тут не с кем говорить, глупые старухи, что они понимают?
– Какая история с Арктикой? – Павел опешил.
– Ну как же. Шельф. Все разругались. Я радио все слушаю, там говорят. Водичка вон там, мне из источника приносят, видите, в эмалированном бидоне?
– А зачем вам нужно знать про Арктику? Ну, разругались, поцелуются, помирятся.
Чайник запыхтел и стал посвистывать; Саларьев выдернул шнур из розетки, но свист прекратился не сразу: медленно и недовольно затухал.
– Мне кажется, что это серьезно.
Вид у маленькой старушки стал внезапно важный, строгий, как у ручной собачки.
– Владыченька нам завещал: читайте, слушайте, не брезгуйте. Правды не скажут, а на мысли наведут. Мы не брезговали. Я теперь одна осталась, все уже освободились. Я младшая была. А вы не откроете чемодан, вон, видите, за печкой? А? или сначала чаю? да? сначала чаю?
Павел подал чашку (мне покрепче, но холодненькой добавьте, ладно?), сел на корточки, раскрыл клеёный чемодан. Там лежали дряхлые листы газетных вырезок, размеченные синими чернилами, с характерными царапками, какие оставляли перьевые ученические ручки. На вырезке, лежавшей сверху, был портрет бровастого генсека, молодого и цветущего красавца-петикантропа. На полях витиеватым, ироничным почерком выведены комментарии: «Надолго», «NB», «Выведут».
– Владыченька уже готовился к отходу. А все вырезал, помечал.
Павел пролистнул бумажки. Покаянная статья попа-расстриги, с четкой пометой: «Из газеты «Правда», 6, XII, 59, № 340.» и отчеркнутым абзацем: «Я вступил во второй брак. Мне пришлось за это испытать немало упреков от фанатиков. Патриарх предпочел оставить меня в академии профессором «под вечным запрещением в священнослужении», но с ношением рясы. На лекциях я должен был продолжать носить это ярмо отсталости и регресса».
Самая старая вырезка, пергаментного цвета, осыпающаяся по краям – за сорок восьмой год.
– А за другие годы почему не сохранились?
– Раньше он не мог. Ну, вы снимочки потом посмо́трите и сами все поймете. Чаю выпейте, пожалуйста, и я вас отпущу. Так что там происходит с Арктикой?
Чай был вкусный, густой; Павел смущался горящего взгляда старушки, но чувствовал себя покойно, тихо. Келейница забрасывала его вопросами: а что сейчас читают, а про что романы, а стихи какие, и почему теперь так странно стали говорить? И все-таки про Арктику – узнайте.
– Хорошо, узнаю. А почему вы называете его владыченькой?
– Да как же! Он и был епископ, на покое. Если это называется покоем. А варенья не хотите? мне приносят. Из крыжовника, на подоконнике, возьмите.
4
Четверть часа, тридцать минут, сорок пять. Келейница ввинтилась в биографию учителя, как буром углубляются в породу; во все стороны летели революция, оттепель, детство, Киев, Арзамас, Сибирь, пятидесятые, семидесятые, тридцатые. Не заботясь об удобстве собеседника, она неслась на полной скорости, переходила на язык намеков, обрывала сама себя и перескакивала через темы.
Павел слушал этот стрекот, слушал – и как будто выключился из розетки. Слова его особенно не задевали, барабанили, как дождь по крыше: постриг… обновленцы… голод… карета скорой помощи… Все это вроде было интересно, еще бы разлепить события, выстроить их по порядку, и вовсе станет хорошо; однако у него перед глазами сейчас стоял не дядя Коля с его размашистой биографией, а та женщина, которую Павел не видел, и даже имени ее пока не знает. Она просыпается, тянется, включает свой мобильник, видит эсэмэс и мило морщит лоб – он у нее наверняка покатый, кожа тонкая. Это что ж такое? Номер перепутали? Ответить? Стереть? Павел чувствовал какой-то сладкий страх, последний раз такое чувство было в ранней юности, когда, решившись наконец-то шепнуть на ухо: «Люблю! А ты?», он ждал ответа. То ли счастье, то ли приговор…
– Я вас совершенно заболтала! Простите, Павел, простите, вам будет тяжело тащить коробку, а ведь еще вертеп – вы мне обещаете, что он не потеряется? Пообещайте! Коробка в левом углу, а театрик в правом, вы по одному несите, хорошо?
Вертеп, обернутый пыльным холстом и туго перемотанный бечевкой, был громоздким и легким, он поместился на заднем сидении. А короб с фотографиями оказался совершенно неподъемным. Целый склад. Его пришлось волочить по ступеням; багажник так и не закрылся, Павел подвязал крышку георгиевской ленточкой, случайно завалявшейся в салоне. И, тяжело дыша, поднялся в третий раз. До чего широкие ступени!
Старушка выдохлась; лежала бледненькая, жалкая, хрипела. И как в начале встречи Павла изумила сила голоса в крохотном, усохшем теле, так сейчас он поражался грозной мощи хрипов, как будто он их слушал в стетоскоп.
В паузах между легочным клекотом Анна Леонидовна прошелестела:
– Вот и все… поговорили… Еще две вещи, Павел, пока не забыла. Первая вещь: владыченька писал записки, тетрадь вон там, на подоконнике, завернутая в целлофан. Взяли? Вот и хорошо. Сохраните их… и фотографии. А под кроватью… ящичек. – Она пошевелила пальчиками, показывая под кровать.
– Послушайте, вам нехорошо. Я вызову скорую.
– Не… надо. Все… пройдет. Бутылки.
Пришлось заглянуть под свисающий край одеяла. Он думал, что увидит паутину, обязательное старческое судно, а увидел темный отблеск вымытого пола и аккуратный ящик с круглой ручкой, вроде тех, что носят столяры.
В ящике лежали две бутылки. Очень старые, безнадежно вылинявшие этикетки. Округлая ликерная, с призывной надписью: «Ciokolata cu visine», и простецкий штоф – «Запiканка украïньска».
Старушка говорила все тише; так падает давление звука в настенных часах, перед тем как они остановятся.
– Владыченька… привез из Киева… три бутылки… положите в ящик, чтобы не разбились. Первую велел открыть, когда большевики уйдут.
– Я все-таки вызову скорую?
– Прошу… не надо. Мы ее выпили… Сладкая была… Владыка знал, что тетки будут пить.
– А эти две?
– Украинскую, сказал, «откроют на поминках». А иностранную – «оставьте на крестины». И… улыбнулся. А на какие поминки, какие крестины? кому будет надо, поймут… Возьмите… пусть теперь у вас… а я посплю… ко мне придут… ангела-хранителя…
Старушка перестала легочно хрипеть и вдруг засвиристела носом. Глаза приоткрыты, щеки впали, губы стали бледно-фиолетовыми и быстро высыхали, покрываясь коркой.
Саларьев посмотрел еще немного на лампаду, взял ящичек и, успокоенный, пошел к машине.
5
Но покой оказался недолгим. Как только Саларьев выехал из города, и перед ним легла дорога, прямая, как стрелка на брюках, – накатила беспричинная тоска. Вокруг холодный свет, холодный воздух. Кончики пальцев стало покалывать; на тыльной стороне ладони, у кисти, где опасно сплетаются вены, проявилась легкая, почти приятная ломота. Первый признак надвигающегося гриппа. Так он всегда заболевал: и в детстве, и в университете, и тогда, в Стокгольме. Павел внимательно смотрел на белую дорогу с темно-желтыми песочными присыпками, и вроде ясно видел путь. Взметнулась порошковая поземка, сухо легла на стекло, и слетела. Но ровная картинка все не могла настроиться на резкость.
Перед глазами что-то вспыхнуло и ослепила головная боль, тонкая, невыносимая, как проволока, продернутая через кожу. Саларьев тормознул; воды не оказалось, и горькую таблетку пришлось жевать, с трудом удерживая тошноту. Как только боль ослабла, он снова тронулся, чувствуя, что все двоится. Он вроде бы и едет, и не едет; вдруг стало холодно, до клацанья зубами. Носоглотка чешется, глаза слезятся, в ушах стоит температурный гул.
Выезжая через мост на Невский, со стороны Васильевского острова, он краем глаза зацепил картинку: на Дворцовой площади толпа переодетых свиньями людей скандировала: «Хрюши – За – Хозяина»! Кричали так громко и так вдохновенно, что было слышно даже сквозь закрытое стекло; «не может этого быть», подумал Павел, «но и бреда тоже быть не может, я пока еще в сознании, что происходит?»
6
Жар то спадал, то распластывал на мокрой простыне. Почему-то вспоминалось неприятное и стыдное.
Тата наконец-то забеременела. (На четвертый год или на пятый? Надо же, уже не помнит.) Беременность ей шла: никаких пигментных пятен. Щеки округлились, под широким платьем прятался животик. Пупок, до этого напоминавший впадину, вывернулся и торчал аккуратной фигулей. А глаза покрылись влажной пленкой и сияли странным светом, обращенным внутрь. Говорят, беременные женщины капризны, то им подай заморских фруктов, то еще чего-нибудь. Тата обходилась красной морковкой. Взрывчато грызла, хрустела, и была вполне довольна. Характер у нее переменился – конечно, временно; вспыльчивость ушла и наступила вяловатая покорность. Такое с ней случалось – редко, иногда, и всякий раз это приводило к дурным последствиям.
По средам и пятницам, свободным от усадьбы (тогда он бывал в Приютине три дня в неделю), Павел вел жену на выгул. Они не прятались от въедливого ветра; сворачивали на сквозную набережную, оттуда шли на продуваемую Стрелку, смотрели, как чернеет ледяной нарост, а через неделю вздыбливается, а через две уходит, отчаянно цепляясь льдинами за льдины. Весенний ветер заворачивался по спирали, высасывал тепло, но Тате почему-то нравилось, она с удовольствием медленно мерзла.
Перевалив за середину срока, Тата опять изменилась. Стала двигаться солидно, как полновесная дама. Посреди разговора смолкала и смотрела долго, не мигая.
Все случилось девятнадцатого мая. Отгуляв положенное, Павел прилег на диван с «Будденброками». На сцене похорон, где ужасающе, до тошноты описан мертвенно-величественный запах траурных венков, стал погружаться в сон. Вдруг позвонили в дверь; Павла будто подстрелили на лету. Он заполошно бросился ко входу. На пороге стоял их нижний сосед, крепкий отставник Иван Петрович. В майке, тренировочных штанах и тапках, розовых, с помпонами.
Бурклый голос нижнего соседа их всегда преследовал: стоило открыть окно – в квартиру сизой струйкой втягивался папиросный дым, а вслед за ним вползал приплюснутый голос майора. «Таак, значится, таак. А мы тебя сейчас положим, положим тебя сейчас, вот таак, ложись, да, ложись, вот таак, молодец… Я строгаю, Бэллочка, строгаю, говорю, строгаю. Мануэль, молчи, я сказал, молчать, Мануэль, не гавь».
Иван Петрович состоял из грохота, визгливых тяфков болонки, сварливых окриков жены. При этом стоило Саларьевым включить проигрыватель, или резко сдвинуть кресло, как Петрович набирал их номер, и, бесконечно повторяясь, выговаривал: «Ну мы же под вами живем, живем под вами, так сказать, ну ведь можно же потише, ведь мы под вами, не умеете сами, интеллигенция, понятно, так давайте я вам на ваши креслицы и стульчики, на стульчики и креслицы, набоечки из войлока нарежу и наклею, из войлока, и шума не будет, как же можно так шуметь».
Заслышав занудливый голос, Тата вышла в коридор; заспанная, безмятежная…
– Это что же такое, так сказать, что же это такое? вы как себя ведете? Вы решили дом, что ль, затопить? Да? Затапливаете, тскть, дом? Что же вы, дамочка, не следите за порядком? А, дамочка? Вы что же за порядком не следите?
Иван Петрович, кургузый, похожий на киношного лесовика, суетливо отодвинул Тату и собирался пронырнуть в квартиру. Павла затрясло от гнева; он рявкнул на отставника:
– Руки! Руки, сказал, убери!
Иван Петрович вдруг засуетился, на лице отобразились ненависть, растерянность, подобие испуга. Он отступил, и стал приплясывать на месте, как пес, которому случайно отдавили лапу:
– Вы ж затопили, посмотрите, это как же понимать? как же понимать, хозяюшка, не стыдно как же? совесть надо же иметь?
– Вон пошел! Ты слышал меня? пошел! Иди, сказал, считай убытки! Принесешь расчеты, оплачу. Ты, суч, не видишь, что жена беременна? Ты на кого тут вякал? Замолчал, понятно?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов