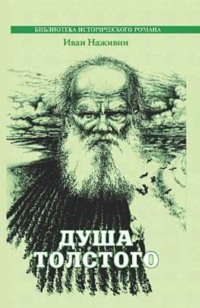
Душа Толстого

Иван Наживин
Душа Толстого. Неопалимая купина
Роман
Озаренный яснополянским светом
Необычайно богата событиями, творческими взлетами и падениями, крутыми, иногда трагическими поворотами жизнь и писательская судьба Ивана Федоровича Наживина. На его долю выпали и нарастание революционных событий в России начала XX века, и мучительные поиски им, русским интеллигентом, своего места на изломе времен. И горькие годы эмиграции, где он написал основные художественные произведения, испытал душевные и материальные потрясения, нищету и, наконец, нашел последний приют в безымянной могиле для бедняков…
Как-то в годы молодости, после очередной встречи с Л. Н. Толстым, Наживин записал в дневнике: «И я знаю, что я не один, тысячи и тысячи людей находят в этом светлом яснополянском ключе силу и бодрость…» Но не только это: Лев Николаевич своими жертвенными, никогда не прекращающимися нравственными терзаниями, поисками Истины, Смысла жизни вдохновил на то же и Наживина. И какой этап его биографии мы ни взяли бы, это очевидно: в образе жизни и труда, в исторических романах, в ревностном сохранении самобытности и самостоятельности – вне рамок всякой партийности – во всем чувствуется влияние великого Учителя.
На одном эмигрантском собрании в Льеже кто-то из присутствовавших, когда речь зашла о Наживине, воскликнул:
– Да черт его знает, как к нему относиться: не то он монархист, не то большевик!..
И вдруг встает молодой человек и говорит:
– Господа, Наживин мне ни брат, ни сват. Я даже не знаю его лично. Но я читаю его. Он ни монархист, ни большевик, он просто Наживин, человек независимый…
Именно эта черта – независимость, нежелание «идти в холопы к разным столпам общества потому, что они свободу слова признают только для себя», – вызывала наибольшее осуждение «элиты» эмигрантских кругов, против него накипала злоба и у правых, и у левых.
По сему поводу один острослов сделал, на первый взгляд, парадоксальный вывод: «Вот, говорят, немыслимо объединить российскую эмиграцию – Наживин достиг этого с величайшим успехом: он объединил всех на ненависти к себе…»
I
Иван Федорович Наживин родился 25 августа 1874 года в деревне Пантюки Владимирской губернии. Мать – из крепостных, отец – государственный крестьянин – благодаря природному уму, предприимчивости, энергии и трудолюбию стал состоятельным человеком, разбогатев на строительных подрядах: возводил большие дома в Москве, прокладывал железные дороги на Юго-Востоке России. После смерти жены Фёдор Наживин отправил детей к бабушке Марфе, в деревню Буланово. Пятилетний Ваня впервые окунулся в мир русской природы и суровой деревенской трудовой жизни; уже в этом возрасте, как Наживин писал в «Автобиографии» (1939 год, к этому документу мы еще будем возвращаться), «босоногий карапуз, загорелый, как подосиновик, таскал снопы в крестцы, перебивал валы на покосе, ездил в лес за дровами, пас деревенское стадо, ощущая при всем этом безмерную радость…»
Затем – Москва, учеба. Четыре класса Иван закончил без особых успехов, разве только учитель словесности зачитывал его сочинения всему классу и оценивал «пятёрками». В дальнейшем Наживин продолжал своё образование самостоятельно и, будучи за границей, поступил в Новый университет в Брюсселе, вскоре его покинул, ушёл оттуда в «огромную аудиторию Жизни»… Когда Л. Н. Толстой узнал, что его молодой друг «ничего не закончил» (речь шла о высшем учебном заведении), то неожиданно воскликнул: «Ну, я так и думал! У вас живой, незасорённый ум, это теперь такая редкость»…
После школы отец начал приучать сына к «делу»: работа на лесных складах, управление домами, участие в торговых сделках на ярмарках. Однако такое, вполне объяснимое, желание подготовить себе достойного наследника вскоре с треском провалилось: в семнадцать лет у Ивана всё закончилось «взрывом самой чёрной неврастении». И отец, светлая голова, предоставил своему способному сыну полную свободу, отпустил за границу, обеспечив материально. Там – прежде всего в Мекке тогдашней русской молодежи Швейцарии, а затем в Австрии, Франции, Италии, Бельгии – Наживин прожил семь лет. Он жадно вбирал новые впечатления, изучал языки и, как во все последующие годы, много читал: классику, произведения современных писателей, научные труды философов, теологов, историков, психологов. Начал писать и печататься – первые опубликованные рассказы «Агапыч» и «За глушаками» (1893 г.).
Неожиданная встреча с «Воскресением» произвела бурный и стремительный переворот в мировоззрении Наживина: он сразу и бесповоротно, не только умом, но и сердцем воспринял идеи Л. Н. Толстого, что имело решающее значение и для творчества, и для всей его жизни. В предреволюционные годы И. Наживин много пишет – публицистические статьи и очерки, рассказы, повести, романы. До 1917 года опубликованы десятки книг, шесть томов Собрания сочинений, его имя уже «довольно видное в нашей литературе» (A. M. Горький).
Возвратившись в Россию, Наживин чужд литературных салонов и обществ, он верен отшельническому образу жизни: на хуторе сам ведет хозяйство, подобно своему кумиру, не гнушается черновой и неприятной работы. Здесь он попутно решает одну из важнейших задач человеческой жизни – доводит свой рабочий день до 16-17-ти часов в сутки, нисколько этим не тяготясь и радуясь чередованию умственного и физического труда.
Революция и гражданская война предъявили Наживину жесткий выбор. Ему пришлось нелегко, хотя грозовые дни он встретил не в помещичьей усадьбе, а в старой дедовской крестьянской избе. И, когда интеллигентские грезы о мирном исходе революции не сбылись, когда тщетные призывы к богатым «поделись!» обернулись иным – «грабь награбленное!», когда страна захлебнулась в крови и братоубийстве, Наживин принял решение (заметим, что его семья не пострадала, ему, как известному писателю, Совнарком выдал охранную грамоту) – встал на сторону белых. Он служил в Добровольческой армии, писал статьи, листовки. «Однако, если и было что в моем деле полезного, – вспоминал Наживин в „Автобиографии“, – то это только мое решительное твердое заступничество за пленных красных: сперва их расстреливали на месте. Деникин отменил отвратительный приказ Главного командования, и я таким образом способствовал спасению многих и многих жизней…»
В эмиграции ему суждено было скитаться по Европе, добывать кусок хлеба для семьи из шести человек, что и удавалось благодаря потрясающему по напряжению писательскому труду. «Я работал как сумасшедший», – скажет он позже. За двадцать лет им написаны десятки новых романов, они публиковались отдельными изданиями, входили в собрания сочинений (40 томов). Подводя итоги собственного творческого пути, Наживин, со свойственной ему самоиронией, не упустил случая сострить: «Я должен только поклониться большевикам: не возьми они меня за шиворот, я, вероятно, в московском уюте так и остался бы при маленьких рассказиках…». Книги его издавались не только на русском, но и на немецком, английском, французском, голландском, чешском, финском, шведском языках.
Близкое знакомство с Западом не вызвало у Наживина эйфории, напротив, он не уставал повторять, что потерял всякую веру в политические и социальные реформы и, в частности, в реформаторов: «Режим египетских фараонов ничуть не лучше режима современной „великой заокеанской демократии“ с ее гангстерами и особенно банкстерами, то есть гигантскими и безнаказанными акулами-финансистами». Экономическая депрессия начала 30-х годов подкосила миллионы людей, и Наживин тоже очутился в стане безработных. Но дело не только в кризисе экономики, он это осознает и пишет: «Торжествующая демократия засыпает миллионами полуголых и совсем голых кинозвезд, боксеров, футболистов, автомобилистов и идиотских „мисс красоты“ – точнее, наглости и бесстыдства. Серьезная книга гибнет везде. Верх берет сыщицкий роман, которым упивается демократия, или роман похабный…»
Как пронзительно актуально все это и сегодня, в начале XXI века!
А жизнь наносила удар за ударом, Наживин падал и поднимался вновь и вновь. Иногда выручал случай: в 1935 году от издательства «Серебренников и K°» из далекого Таньцзиня пришло письмо с предложением выпустить его Собрание сочинений для русской эмигрантской колонии в Китае. Вскоре начали выходить том за томом. Но это было лишь единственное светлое пятно на мрачном фоне.
А в конце тридцатых годов, оглядываясь на пройденный в литературе путь, Наживин мог с чистой совестью сказать: его ум всегда был занят серьезными вещами. И выводит ключевую формулу-самооценку, которую вряд ли кто-либо сможет оспорить: «Я не нахожу лучшего слова для выражения основной идеи моих писаний как ОСВОБОЖДЕНИЕ – постепенное освобождение мое от всяких цепей и воскресение в полной свободе».
До конца дней своих И. Ф. Наживин оставался государственником и потому так страстно призывал любить Россию – «Россию русскую, ибо если ее не будет русской, то ее вообще не будет, а будет только огромная куча „демократического навоза“. Он яростно отвергал всякое иностранное вмешательство в дела России и „тех наших кретинов (эмигрантов – В. Х.), которые ставят то на поляков, то на немцев, то на японцев“, считал этих „кретинов“ изменниками и мерзавцами.
Он пристально вглядывался в то, что происходило на Родине, и, может быть, одним из первых почувствовал назревающий поворот советского руководства к истории и вековым традициям русского народа, к идее Отечества – сильного, неуязвимого для внешнего врага. Наживин радуется тому, что в России покончили с частным землевладением. Приветствует отделение церкви от государства. Хотя и очень осторожно, но поддерживает социальные перемены в обществе: «Я знаю, что Царствием Небесным эта Новая Россия не будет, но, может быть, удастся все же… закрепить подлинные, хотя и нисколько не планетарные завоевания…» Такое довольно неожиданное признание кое-кто и в наше время называет «причудливым сменовеховством». А на самом деле за этим признанием Наживина – трезвый анализ, критическое переосмысление произошедшего в России, загляд в будущее. И потом: в своем, с позволения сказать, «сменовеховстве» он был совсем не одинок. Яростный противник советского строя, русский философ Н. А. Бердяев примерно в то же время назвал себя «аристократическим мыслителем, признавшим правду социализма». «Не о хлебе едином жив будет человек, – писал он, – но также и о хлебе, и хлеб должен быть для всех… Коммунизм есть великое поучение для христиан…».
Наживин не только пересмотрел свои взгляды, но и опубликовал «Обращение к Иосифу Сталину», которое завершается прорвавшимися от истомившегося по родной земле сердца строками: «Я желал бы самой широкой амнистии для эмигрантов, которые готовы присягнуть на верность Новой России… Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, пустить меня домой. Сил осталось уже немного, но все их отдам на служение Родине…»
Но, увы, письмо осталось без ответа. Он мечтает, чтобы похоронили его в Пантюках, на Оленьей горе, от самого названия которой веет древностью… Иван Федорович Наживин умер 5 апреля 1940 года в Брюсселе. Место захоронения неизвестно.
II
Наживин – один из немногих ярких продолжателей традиций критического реализма могучей русской литературы XIX века. Совсем не случайно видные зарубежные писатели сравнивали его с Н. В. Гоголем, И. С. Тургеневым, Н. С. Лесковым, хотя сам Наживин не принимал всерьез подобных оценок, считая их просто «эмоциональными». И это верно. Но верно и то, что Наживину-художнику присущи точность и правдивость в отображении жизни, нравственная чистота, редкая наблюдательность и экономность изобразительных средств, пластичность образов, родниковый русский язык. Его книги – захватывающее дух чтение, философское осмысление бытия и любовно трепетное описание русской природы.
В первый период творчества И. Наживин находился в поиске своей ниши в литературном процессе, своего стиля. В рассказах и очерках, в романе «Менэ… Тэкэл… Фарес» он рассматривает острейшие социально-экономические и нравственные проблемы предреволюционной России: бедствия и массовый исход крестьян в города, каторжный труд поденщиков-грузчиков, вообще рабочих на фабриках и заводах, нарастание протеста против самодержавия в народе и в среде интеллигенции, студенчества. Л. Н. Толстой, прочитав роман, тут же отправил письмо автору: «Скажу только, что желал бы, чтобы его побольше людей читало… Мне было особенно интересно, потому что я читал в романе вашу душу, которую я люблю»…
Среди научно-публицистических работ И. Наживина тех лет выделяется книга «Голоса народов», в которой, исследуя «светлые ключи» религиозной жизни всех времен и народов, он пытается определить нечто общее, объединяющее всех (Лао-цзы и Будду, Зороастра и египетских мудрецов, Моисея и Христа): «Любовь есть закон жизни, и исполнение этого закона дает человеку бесконечную радость, ничем не отъемлемое благо и, сливая его в любви со всем сущим и с источником всего сущего, Богом, в одно, делает его жизнь вечной…»
Самыми плодотворными для Наживина оказались двадцатые и первая половина тридцатых годов – именно тогда написаны его лучшие произведения в жанре исторического романа. Цикл романов («Мужики», «Распутин», «Женщина», «Большевичка», «Собачья республика») являет собой своего рода художественную энциклопедию жизни страны эпохи революций: это и беспощадный анализ совсем близкой истории, бесконечная грусть и жгучая боль, всепонимающее сочувствие народу.
Одним из самых значительных по художественному воздействию на читателя следует признать роман «Распутин» (1923 г.), который принес автору мировую известность, так как был опубликован не только на русском, но и на пяти европейских языках. Томас Манн поздравляет Наживина: «Ваш „Распутин“ – монументальное произведение и был для меня во всех отношениях – в историческом, культурном и литературном – большим откровением». Шведская писательница, лауреат Нобелевской премии Сельма Лагерлёф в восторге: «Прочитав Вашего „Распутина“, я чувствую себя исполненной величайшего удивления пред той силой и знанием, с которыми Вы, картину за картиной, представляете русский народ. И Вам удалось достойным всякого удивления образом заставить эти картины жить».
В этом романе И. Наживин и в самом деле развертывает широкую панораму жизни российского общества в 1910-1920-х годах, раскрывает душу русского человека. «Самое горькое, – пишет Наживин, – что в народе нашем нет теперь никаких устоев, никакой веры, у него в душе страшная пустыня, и я готов вам тысячи раз кричать: быть беде!..». Главный герой романа совсем не прост, он от природы талантливый политик и, наверное, экстрасенс, как сказали бы мы сегодня, ибо творил чудеса: тасовал правительство, менял министров, имел ничем не объяснимое влияние на императора и императрицу. Будучи злым гением разрушения, Распутин сам не мог не сокрушаться из-за подлости человеческой натуры.
Русскому народу в критические моменты его истории посвящены блестящие романы Ивана Наживина: «Глаголют стяги» (из эпохи князя Владимира Красное Солнышко); «Бес, творящий мечту» (о нашествии Батыя на Русь); «Кремль. Хроника XV–XVI вв.» (времена Ивана III), «Казаки» (Степан Разин). Писатель воссоздает исторические события через судьбы всем известных и простых людей, причем делает это с большой эпической силой. Вот, к примеру, какими сочными мазками набрасывает он портрет Степана Разина: «Рослая широкоплечая фигура атамана… Его грубое, рябое лицо с небольшой черной бородой было правильно и красиво какою-то особою степной, дикой, звериной красотой, и карие глаза смотрели строго и повелительно. Чуяли в нем казаки присутствие какой-то силы темной, считали его немножко ведуном, побаивались его, гордились им…»
В романе «Во дни Пушкина», как и обычно в произведениях Наживина, читателя захватывает динамичный увлекательный сюжет, масштабное историческое обозрение. Среди действующих лиц – Александр I и Николай I; Крылов, Гоголь, Жуковский и молодой гусар Лермонтов; московский любомудр Чаадаев и целая галерея декабристов; генерал Ермолов и шеф жандармов Бенкендорф, которому Николай I поручил «утирать слезы» России… Из этого объемного (в трех книгах) романа читатель узнает немало нового, а многое, уже известное, предстает в ином освещении. Необычен и наживинский Пушкин: это полнокровный образ великого поэта, патриота и в то же время – обычного земного человека. Ему отнюдь не чужды неожиданные порывы души и удивительные поступки, за которыми всегда скрывается художник, без устали и отдыха познающий жизнь во всем ее многообразии. Таков блестяще выписанный эпизод почти насильного приглашения Пушкина небезызвестным графом Ставрогиным – в своем поместье («мини-России») самого царя и Бога, которого обслуживали семнадцать лакеев, при этом каждый из них делал только что-то одно (подавал трубку, другой – стакан воды и т. д.) и у которого в нищете умирал от чахотки крепостный музыкант.
Одним из главных трудов своей жизни И. Наживин считал трилогию из истории христианства. Этот творческий замысел Л. Н. Толстой в свое время не одобрил: «трудная, почти неосуществимая задача». Но Наживин не отступился и спустя четверть века, узнав много нового о той эпохе и о человеке вообще, пишет «Евангелие от Фомы», «Иудей» и «Лилии Антиноя». В первом романе автор как бы слился с отображаемой эпохой, он живет, думает и чувствует как житель Иудеи в кипучие и беспокойные времена. Образ Иисуса Христа исполнен поэзии, красоты и человечности. Талант и воображение художника расцветают в рамках сурового реализма, а само распятие, никогда и никем ранее не описанное, потрясает неотвратимостью трагического конца… В центре повествования романа «Иудей» апостол Павел – по мнению Наживина, исказивший в своих проповедях учение Христа. И, наконец, «Лилии Антиноя» – впечатляющая картина крушения и гибели Иудеи, раздавленной Римом.
Трилогия Наживина (в особенности «Евангелие от Фомы») была встречена восторженными откликами в западной и полным замалчиванием в эмигрантской печати: отторжение независимого публициста было перенесено и на даровитого, но свободного писателя. В связи с этим любопытные сведения обнародовал Михаил Филин: ему удалось обнаружить лишь около двадцати рецензий, написанных русскими беженцами на книги И. Наживина (за 20 лет каторжного труда!), между тем только о «Распутине» в одной Германии было опубликовано более 30 отзывов.
А теперь, вслед за М. Филиным, перенесемся в наши дни и зададимся вопросом: почему соотечественники-издатели в конце 80-х и начале 90-х годов в рекордно короткие сроки стотысячными, а то и миллионными и более тиражами наводнили страну книгами Е. Замятина и В. Набокова, Л. Ремизова и Г. Иванова, И. Шмелева и Д. Мережковского, а И. Наживина – «забыли»?[1] Не зеркальное ли это отражение феномена замалчивания его творчества соотечественниками-эмигрантами? Уверен, что это так: все упирается в схожую политическую конъюктуру – идеологическая, государственническая позиция Наживина и художественная сила, с которой она выражена, никоим образом не устраивают многих – и тогда, и ныне.
Идея мощного Отечества – независимой России – ключевая в творчестве И. Ф. Наживина. Он не уставал повторять, что идея патриотизма всегда питала и будет питать русскую литературу, что «в детском и юношеском воспитании на первое место мы должны выдвинуть не тех, кто ловчее освистывает Рос сию, а тех, кто, раскрывая тихую красоту ее, учит нас любить ее и, ценя других, все же ставить ее, как немец свою Германию, über alles»…
В заключение – несколько слов о впервые изданной в России книге, которую вы, дорогой читатель, держите в руках. Общепризнанно, что научно-художественная биография гения русской и мировой литературы еще не написана. «Неопалимая купина» – самое значительное, психологически достоверное повествование о Л. Н. Толстом, его жизни, творчестве, поисках спасительной для человечества волшебной «зеленой палочки». В 1911 году Наживин по праву сказал о том, что на его долю выпало «редкое счастье не только узнать Льва Николаевича близко, но и получить… уголок в его сердце». И сам Наживин проник не только в глубину творений Толстого, но и «заставляет» своего героя распахнуть перед нами свое горящее, и, как неопалимая купина, не сгорающее сердце.
Мир Толстого, как мир гения, – велик, неповторим и противоречив, судьба его – загадка. Наживин помогает нам приоткрыть бездны этой тайны, показывая, как пятидесятилетний, уже увенчанный славой писатель словно выпрямился во весь рост, осмотрелся и увидел все его окружающее по-новому. Отчего жизнь устроена так, что одни купаются в роскоши и богатстве, а другие гибнут в нищете, голоде и холоде? Что делать? Толстой находит выход в главном – в любви, доброте, самосовершенствовании. Вот эта заповедь нам: «… Любить дальних, человечество, народ, желать им добра дело нехитрое… Нет, ты вот ближних-то, ближних полюбить сумей, тех, с которыми встречаешься каждый день, – вот их-то люби, им-то делай добро!». И со многих страниц романа предстает Толстой-добротворец, решительно выступавший против социального неравенства в обществе, жестко требующий от правительства в годы поразившего Россию голода (1891, 1893, 1898 гг.) принятия мер для спасения людей. Он сам помогает крестьянам бедствующих губерний, сам ездит по умирающим деревням и устраивает на свои средства бесплатные столовые для крестьян.
Какой контраст с россказнями нынешних либерал-демократов о якобы благоденствующей – с полными закромами пшеницы – дореволюционной России!..
Книга, написанная к 100-летию со дня рождения Л. Н. Толстого (опубликована сразу же на русском, шведском и финском языках), остро современна и сегодня, спустя три четверти века. В ней мы находим ответ на вопрос: в чем смысл жизни? Нет сомнения, каждый читатель даст свою версию. А, может, еще раз обратимся за советом к самому Льву Николаевичу?
За полгода до своего ухода в вечность он так писал ученикам Екатеринбургского горного училища: «О том же, придет ли время, когда не будет бедных и поедающих их труды богатых? Ни я, никто знать не может. Но зато и я знаю, и всякий может знать, что главный смысл жизни каждого из нас в том, чтобы содействовать своей жизнью приближению этого времени…»
В. Хелемендик,
доктор исторических наук, член-корр. Российской академииобразования.
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА[2]
ПРЕДИСЛОВИЕ
Лет пятнадцать моей жизни прошли под знаком Толстого. Почти десять лет я был лично близок к нему, видел его жизнь, видел его душу, то светлую, то бурно мятущуюся и всегда взволнованную жизнью. И мне хочется рассказать о нем, об этом трагическом строителе все нестроющейся веси Господней…
Я знаю мало честно, правдиво написанных биографий. Мы не можем писать биографии иначе как розовыми красками. Этот обман очень наивен. Мы не дети, и пора бы нам перестать тешиться этими историческими погремушками. Может быть, это желание преклониться, отдохнуть душой на избраннике Судьбы и понятно, но все же это подделка, и избранник наш из раскрашенного папье-маше, а ореол над головой его – из золотой бумаги, которая идет на обертку конфет для детей. Этот иконостас наших знаменитостей, блестящий фольгой и поддельными драгоценными камнями, только утомителен и нисколько не красив.
Чем подражать так богомазам, лучше не писать биографий совсем, лучше сделать так, чтобы вся земная жизнь героя, вся до последней черточки, стерлась бы как-нибудь из памяти людей, а осталось бы только то, чем он стал дорог людям, только чистое золото его души и его жизни. Мне нет надобности знать, в какой консерватории был профессором Чайковский или где читал лекции Кант, с кем он поссорился, с кем помирился, в каком ресторане обедал, – с меня достаточно тех звуков или тех мыслей, которые эти чародеи оставили после себя, тех сладких чар, которыми они опутали нашу бедную жизнь. Пусть сам он, как далекая звезда, уже давно сгорел, но пусть еще долго рдеет и переливается на небе жизни его чистый, серебристый свет. Пройти по земле и не оставить после себя ни дыма костров, ни крови битв, ни спичей по ресторанам, а только вот эти солнца-мысли, только вот эти рои чистых и сладких звуков – какая это красота, какое счастье!.. А если уж нам хочется иметь всю его жизнь, в подробностях, то надо дать нам его не как икону условного письма, не как какие-то мощи, а надо дать действительно всю его жизнь, подлинную, живую, надо дать не только преображенный на горе Фаворе славы лик великого, не только его ослепительное вознесение над серыми толпами человечества, – надо дать и его муку, и сомнения в Гефсиманском саду, надо дать его тяжкий, пыльный крестный путь, надо дать его крик отчаяния на Голгофе…
Сам Толстой всегда горячо восставал против старой римской поговорки, что о мертвых надо говорить или хорошо, или совсем ничего не говорить. Он настойчиво повторял, что о живых надо говорить только хорошее или молчать, – чтобы не сделать им больно, – но о мертвых, которым уже все равно, не только можно, но должно говорить все, чтобы на примере их, на правде их жизни мы могли хоть чему-нибудь научиться. И я считаю, что оскорбил бы память великого правдолюбца, если бы – как это делали почти все, писавшие о нем, – сделал бы из него икону. Как никто, он ненавидел условности и всякую ложь, и потому напрасно расшаркиваются перед его памятью биографы, напрасно на каждой странице пытаются выдать они ему похвальный лист. Он сам пытался было писать автобиографию, но с первых же шагов наткнулся на большие трудности…