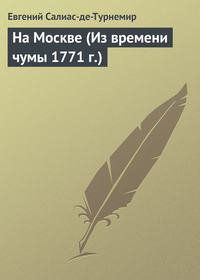
На Москве (Из времени чумы 1771 г.)
По переезде в столицу на жительство Воробушкин зажил по-своему.
Капитон Иваныч знал всю Москву, и вся Москва знала Капитона Иваныча. Он очень любил знакомиться – привычка, оставшаяся еще от морской службы и путешествий. Он говорил, что всякий новый знакомый непременно расскажет что-нибудь новое. Действительно, у Капитона Иваныча, при его любознательности, была особенная способность из всякого выпытать все, что только возможно.
От самых именитых вельмож и до последнего дворника. Капитон Иваныч знал каждого в лицо, знал по имени, знал чуть не всю его подноготную. Когда он шел по Москве, то ежеминутно слышал около себя, направо и налево, привет и поклон, и всякий обращался к нему особенно любезно и ласково. Не было человека, которому бы Капитон Иваныч был не по сердцу. Добрая и честная душа его будто чуялась всяким в маленьких глазах его, в ясном лице, в улыбке, в голосе.
К довершению всего, Капитон Иваныч особенно любил услужить, одолжить, схлопотать всякому, елико возможно. Постепенно, незаметно для него самого, у Воробушкина явился такой громадный запас всяких знаний, что он иногда действительно удивлял некоторых знакомых. И эти знакомые, что бы у них ни случилось, всегда обращались к Воробушкину.
Священник не стыдился обратиться к Капитону Иванычу с вопросом, касающимся до религии, и Воробушкин, зная не только все церковные службы наизусть, но и прочитавший кой-какие священные книги, мог многое пояснить. Помещик спрашивал Капитона Иваныча насчет молотьбы или посева в заморских землях, и хотя Капитон Иваныч из всего заморского видел только один остров Гохланд[2], Свеаборг[3] и Стокгольм, однако отвечал кое-что и, ничего почти не понимая в российском немудреном хозяйстве, толковал об мудреном заморском.
Всякий прихворнувший из знакомых или заболевший опасно, приняв все меры, все-таки посылал к Капитону Иванычу спросить совета, и Воробушкин являлся вдруг в качестве медика и случалось, что вылечивал гораздо лучше, скорей, чем настоящий знахарь. Кузнец обращался к барину с вопросом о ковке лошадей. Дворнику Капитон Иваныч объяснял, какая метла или лопата лучше, как ее следует держать. И, в порыве увлечения и поучений (а Воробушкин все делал с увлечением), барин не стыдился взять вдруг метелку в руки и начинал для примера усердно мести улицу первопрестольной столицы. За этим занятием застал его однажды знакомый сенатор и перестал ему потом кланяться.
В подобных случаях Авдотья Ивановна выходила из себя и говорила, что муж позорит свое дворянское происхождение. Но Капитон Иваныч каждый раз на подобное замечание отвечал:
– Не тебе, чухонке, меня дворянскому обхождению учить!
Даже разносчики города Москвы, которых не только десятки, но даже сотни ежедневно и ежечасно проходили мимо ворот и окон дома Воробушкина, тоже застаивались с знакомым барином, толкуя с ним подолгу, советуясь насчет своего товара. И на всякий вопрос и всякое сомнение как важного вельможи, так и простого мужика, Капитон Иваныч мог дать неглупый совет, слышанный от кого-либо когда-либо.
Это происходило, конечно, от громадной его памяти; но Капитон Иваныч и не догадывался, что есть на свете такая особенная способность, называемая памятью, и что есть люди, у которых такой способности нет. Он думал, что во всякой голове все, когда-либо виденное и слышанное, непременно с пользой остается навеки.
Единственные люди, с которыми Капитон Иваныч не любил знакомиться и избегал, елико возможно, даже отчасти боялся, были подьячие, судейские крючки разных палат и коллегий.
Воробушкин даже додумался сам до того открытия, что подьячие – прямые потомки Иуды Искариота. Так как московские подьячие составляли нечто вроде особой касты, подобно духовенству, то Капитон Иваныч и мог прийти к этому предположению. Одного только не знал он, и хотя спрашивал у многих священников, но добиться толку не мог, был ли Иуда Искариот[4] женат и были ли у него дети, прежде чем он предал Христа и повесился.
Вопросы вроде этого, церковные и иные, особенно занимали любознательного Капитона Ивыныча. Иногда, додумавшись до чего-нибудь, он носился с своей мыслью целый месяц и передавал ее каждому встречному и каждому новому знакомому, и всегда кончалось тем, что вопрос так или иначе разрешался.
Капитон Иваныч и Авдотья Ивановна, почти с первого же года женитьбы, зажили, как кошка с собакой. Хотя Воробушкин был кроткого нрава, ладивший со всеми, но с такой особой, как его супруга, ладить было совершенно невозможно. Если когда он пробовал соглашаться со всем с женой и отмалчиваться, то все-таки и тогда были ссоры, потому что Авдотья Ивановна начинала придираться и к тому, что муж все соглашается и, что ему не скажешь, все молчит.
– Вишь, умница какая! Петух сусальный! Словом подарить не хочет! – начинала браниться Авдотья Ивановна.
И действительно, супруга подметила верно. Воробушкин, в особенности когда надевал свой мундир, при своем маленьком росте, быстрый в движениях, с большими толстыми ногами, невольно смахивал чуть-чуть на тех петушков, вымазанных краской и сусальным золотом, которые продавались разносчиками на всех углах столицы.
Жизнь супругов шла особняком. Капитон Иваныч старался удалиться от бранчливой супруги всячески, а Авдотья Ивановна от зари до зари сидела у окошка квартиры – глядела на проезжающих и прохожих.
Сначала, в первый год жизни в Москве, она сидела у окна в позолоченном пунцовом кресле, расфранченная, в кружевах и бантах. Теперь же, в маленьком домишке на Ленивке, Авдотья Ивановна сидела у окна на рваном кресле, с двумя простыми спальными подушками за спиной, и уже не расфранченная, а по исконному российскому выражению – «растерзанная». Когда-то она считала для дворянки и офицерши необходимым вышивать что-либо бисером, и делала это, хотя не любила вообще никакой работы. Теперь же ей приходилось, глазея у окна на прохожих, вязать чулки и фуфайки уже по необходимости, ради продажи. За последний год, исключая ссор с мужем, Авдотья Ивановна почти не сходила с своего места у окна. Сюда приносили ей утренний чай, здесь же она и умывалась, здесь и обедала, в разные с мужем часы.
Капитон Иваныч, с своей стороны, с утра уходил из дому и бродил положительно по всей Москве, по своим бесчисленным знакомым, и везде бывал принят с распростертыми объятиями. Всякий, при виде его, начиная с сановника и кончая купцом, священником, встречал его с искренним, внезапным восклицанием:
– Ах, Капитон Иваныч! – и в восклицании слышалось неподдельное довольство. – Ах, как хорошо, что зашли! Мне у вас спросить надо.
И знакомый тут же спрашивал что-нибудь, по-видимому, совершенно не касающееся Капитона Иваныча.
Вообще – зачем, как и в какой недобрый час дворянин Воробушкин женился на рязанской повивальной бабке последнего разбора и получухонке – было покрыто мраком неизвестности. Часто думала об этом Уля и вздыхала тяжело. Кабы не барыня – что бы за жизнь их была!
Между мужем и женой было так мало общего, что им случалось побраниться иногда даже из-за такого пустяка, который вовсе не касался их обыденной жизни. Так, однажды, отправившись летом, еще до приезда Ули, прогуляться на Воробьевы горы, Воробушкины запоздали там. Капитон Иваныч пришел в такое восхищение от вида на всю Москву, от Головинского дворца и сада и от всей прогулки, что, сладко улыбаясь супруге, чуть не первый раз с самого медового месяца, предложил посидеть еще часок лишний и полюбоваться видом, когда поднимется луна на небе. Авдотья Ивановна, давно изучившая мужа, все-таки невольно выпучила на него глаза.
– Что же мы тут будем делать? – спросила она.
– А вот, когда встанет луна, – прошептал, все улыбаясь, Капитон Иваныч с сияющими глазами, – да пойдет она по небу и начнет светить на нас, и на Воробьевы горы, и на Москву, то, должно быть, будет удивительно…
– Да что?
– Все! Все…
– Что удивительно-то?
– Да все же, все!..
Авдотья Ивановна закачала головой и, поняв наконец, в чем дело, заговорила не только презрительно, во даже сожалеючи супруга:
– Ах ты шальной!.. Ах ты дура, дура!.. А еще помещик, офицер царской службы!.. Ведь это никакой парнишка деревенский, никакой крестьянский сопляк такой глупости не выдумает и не предложит. Сиди, вишь, до ночи на горе за пять верст от дому! Зачем? На небо да на луну посмотреть. Да разве она, дурак ты этакой, у нас-то не светит? разве ты ее из окошек не видаешь всякий день?
И слово за слово, благодаря особенному восторженному настроению Капитона Иваныча, которое вдруг разрушила своими словами его супруга, муж и жена страшно поругались на краю горы, в виду, так сказать, всей Москвы. Кончилось тем, что Авдотья Ивановна отправилась домой одна, а Капитон Иваныч, уже не ради наслажденья, а на смех жене, просидел на Воробьевых горах, голодный и холодный, вплоть до утра, а затем, вернувшись, объявил жене, что будет ей назло всякую ночь ходить на Воробьевы горы на луну глядеть. Часто вспоминал потом Воробушкин этот случай, но трудно было решить, кто из двух супругов был тут виноват.
Уля, по приезде, решила эту прошлую ссору супругов беспристрастно и справедливо.
– Вы сами, Капитон Иваныч, – сказала она, – совсем виноваты. Нешто можно такое предлагать Авдотье Ивановне? Мы с вами люди простые, нам и любопытно на луну, на звездочки любоваться, а нешто Авдотья Ивановна, занятая разными делами, может этакое делать?..
– Правда, – отвечал Капитон Иваныч, – и я дурак, что с ней, чухонкой, по сердцу разговариваю. А все ж таки скажу, прости мне Господь Бог, а я вот как чувствую… Всей душой чувствую… такое, чего она не смыслит! Я, Уля, сокол, а она свинья… Я это многим разъяснял, и все со мной согласны!
Авдотья Ивановна оставляла мужа спокойно болтаться по Москве и «галок считать», как она выражалась, но во всем, что касалось дома, хозяйства и их домашних дел, она не уступала мужу ни пяди, и все творилось по ее воле.
Таким именно образом за последнее время и было растрачено почти все состояние и было распродано почти все, что можно было продать. Капитон Иванович сердился, кричал, бранился, но все-таки кончалось тем, чего желала супруга, и тогда Капитон Иваныч, махнув рукой, уходил из дому иногда на два, на три дня и не ночевал даже дома.
За год перед тем Авдотья Ивановна, распродавшая тех дворовых, которых привезла с собой, продала наконец и человека Василья Андреева, жившего у Воробушкиных много лет, и любивший его барин не мог ничего сделать.
И главная беда, главная обида Капитона Иваныча заключалась в том, что Авдотья Ивановна продала лакея в одни руки, господину Раевскому, а жену его, очень красивую женщину, – в другие руки, бригадиру Воротынскому, старому греховоднику, который купил Аксинью вовсе не в услужение.
Василий Андреев, прежде человек смирный и трезвый, стал пьянствовать и, уходя из дому барыни, погрозился, что он из-за нее в каторгу пойдет. Но Авдотья Ивановна была не из тех барынь, которых этим можно было испугать.
За последнее время у Авдотьи Ивановны явился новый план. Давно уже, около года, была у нее одна мысль, но, несмотря на свое презрение к мужу, она все-таки не решалась долго заявить об этом. Она чувствовала, что это намерение уже черезчур поразит мужа в поведет к целому ряду крупных ссор, а пожалуй, и больше того. Капитон Иваныч, пожалуй, Бог знает чего наговорит! План этот касался уже их мужицкой дворянки, т. е. красавицы Ули. Действительно, сказать об этой новой затее Капитону Иванычу было даже и для Авдотьи Ивановны несколько страшно.
V
24-го ноября солнце, сиявшее перед Ивашкой, ярко светило и в окошко беленькой горенки в мезонине небольшого серого дома на Ленивке… Весело, празднично льются и сияют золотые лучи чрез причудливые узоры, что разрисовал мороз на стеклах окошечка. Вся горенка была всегда светла, сама по себе от белой, без единого пятнышка, штукатурки стен и потолка, от нового белого пола, от кровати с белым, как снег, одеялом и белой кисейной занавеской. Теперь же, от яркого солнца зимнего, золотисто-красного, белая горенка блестит и светится как-то особенно чудно. Заглянуть бы кому-нибудь в эту горенку, и он непременно, тотчас бы заметил, почувствовал, что не похожа эта горенка на другие! А что в ней такого особенного? Ничего!
Горенка эта вся белая, золотистым огнем горит в лучах солнца, которые будто играют, переливаются по стенам и на полу. У стены снежно-белая девичья кровать, несколько ясеневых стульев, маленький комодец под белой салфеткой, в углу киотик и четыре простые иконы без риз. Над ними свесилась старая верба от прошлого еще праздника; пред ними лампадка стоит, а около нее пузырек со святой водицей и вынутая просвира, сухая, потрескавшаяся, тоже полугодовая. У окна узорчатого столик и на нем корзинка. На окне клетка, и в ней серая кургузая пичуга попрыгивает от зари утренней до зари вечерней.
Вот и вся горенка – и все, что в ней есть!..
Да, но в ней еще в белом платье и переднике девушка Уля сидит перед столиком у окна. Вот от Ули, знать, вся горенна-то и имеет чудный вид. Уля – душа этой горенки…
Кажется, что, и не зная, можно было бы догадаться, что это горница Улина. Ее лицо, чистое, светлое, и взгляд ее больших ясно-серых глаз, и милая ласковая улыбка веяному сразу выдают ее душу, тоже ясную, чистую, добрую, и всю вот… как на ладони!..
Глянет Уля на нового человека – и кажется, будто глаза и губы ее, все лицо вечно-безмятежно радуются чему-то и будто говорят кротко:
«Нате!.. Вот я!.. Вся тут! Хотите – любите, хотите – нет…»
И новый человек невольно взглянет на Улю тоже весело и тоже кротко. И ему покажется, что он Улю давным-давно знает. И тотчас же новый человек догадается, что, однако, очень мудреного говорить Уле не надо и мудреного с нее взыскивать тоже не надо… А все то простое, и Божье, и человеческое, все то, на чем мир стоит, Уля лучше всех давно поняла, знает, чувствует! Как в ней самой, на душе ее ясно ей все и понятно, так и вокруг нее в мире, – тоже все ясно ей и понятно.
И Уля похожа, право, на свою горенку. Так же чиста, и бела, и светла она и лицом, и душой, как светла горенка. Как золотые лучи солнца проливаются теперь сквозь хитрые узоры окна в белую горницу, так же иной теплый и ясный свет, не всякому ведомый, проливается в душу Ули, когда она одна по целым часам сидит здесь за столиком с работой в руках, а мысли ее тихо по миру бродят. И этот свет душевный не сияет ярко, не блещет, а будто тихо мерцает в ней, как лампада, и тихо отражается на ее губах, в кроткой улыбке, в ее безмятежном светло-сером взгляде.
– Славная она какая! – тотчас же говорит или думает про Улю новый человек.
Молодой глянет на нее и присмотрится еще, покосится так, что Уле иной раз надо поневоле глаза опустить… Старый глянет – повеселеет, будто старая душа встрепенется в нем… Злюка иная глянет на Улю и отвернется тотчас, как сова от луча солнечного, как грешник от иконы и лика угодника. А ребята большие и малые, от грудного младенца до большущего буяна и головореза, – все лезут и липнут к Уле, как мухи на мед. Взрослый подросток все ей свои затеи поверяет, а грудной младенец сейчас начнет приглядываться к ней, будто глядеться в свет ее глаз, надеясь увидать там то самое, что еще недавно знал… пред тем, что сюда прийти, в этот мир!.. И младенец, пристально вглядевшись в этот лучистый свет Улиных глаз, тотчас усмехнется, – для людей простовато, глупо, а на деле мудрено, хитро; будто, переглянувшись с Улей, поняли они оба такое, что другим людям неведомо и непонятно, про что они – себе на уме – одни с ней знают!..
Уля почти целые дни сидит здесь в своей горнице и шьет, покуда светло на дворе. Много дает работы Авдотья Ивановна… Конца ведь и не будет этой работе, потому что барыня не на себя, а чуть не на всю Москву шьет ее руками и поставляет всякое белье. Сидит Уля с утра до обеда, а пообедав, накинет на плечи шубку, выглянет за ворота на минуту, подышит морозным воздухом, пробежит по льду на тот берег Москвы-реки или до угла Пречистенки, иногда сбегает до церкви к знакомой просвирне на минутку, и опять домой. И такая же веселая, только румянее от мороза, вбежит по крутой лестнице в свой мезонин и опять сядет работать. Иной раз, однако, она долго держит шитье в одной руке, иголку в другой, – и обе руки лежат недвижно на коленях, а глаза ее устремились на любимца чижика в клетке и глядят ласково, как он прыгает, чиркает лапками по жердочкам, клюет семя и попискивает свою однообразную, немудреную, безобидную песню.
Уля любит своего чижика особенно потому, что ей кажется, будто его жизнь в клетке и ее жизнь в мезонине – та же самая – простая, одинокая, будто никому не нужная, ни миру Божьему, ни людям, ни себе самому. Сдается невольно, что и этому чижику, и Уле равно незадача какая-то на свете! И правда, чижик тоже удивительная пичуга. Точно его Бог чем обидел, и будто он покорно принял это, как бы неизбежное, заслуженное, и без попреков, смиренно покорился своей судьбе.
В этот день ясный, праздничный Уля все-таки сидела за работой, но ей было как-то не по себе, она тревожно поглядывала и прислушивалась вокруг себя. Внизу слышались громкие голоса барыни и Капитона Иваныча. Будто предчувствие чего-то сказывалось в Уле, и работа не клеилась. Все чаще оставляла она иголку и задумывалась, вспоминала последние слова и взгляды барыни – особенные, многозначительные, обещавшие мало добра, много худого…
Со всяким худом кротко, многотерпеливо и смиренно сживалась Уля, говоря:
– Видно, такова моя судьба.
Но за последнее время надвигалась страшная гроза на ее серенькую, скромную и безобидную жизнь, и Уля чуяла невольно, что даже при всем ее вечном смирении и покорности судьбе мудрено будет пережить эту грозу. Она чуяла, что Авдотья Ивановна и вдова расстриги обе затевают что-то…
Уля знала, что имущество Капитона Иваныча было формально передано когда-то жене по слабости характера, и теперь остатками этого имущества Авдотья Ивановна и по закону могла распоряжаться, как хотела. А Уля, по продаже рязанского имения, осталась за ними… Тогда Капитон Иваныч не захотел продать свою крепостную племянницу, а выписал из купчей. Он хотел, напротив, устроить ей вольную и собирался сделать это постоянно… и не собрался! И все его имущество, и крепостные были уже теперь не его, а Авдотьи Ивановны. На просьбы его отпустить его племянницу на волю барыня-супруга обещала… завтра и на днях, с весны до осени и с осени до весны…
VI
Ивашка, сбыв с рук старуху, начал расспрашивать прохожих о том, где Ленивка.
Через час путешествий по улицам Москвы он нашел наконец дом Воробушкиных. Среди тени и грязи, между десятками маленьких деревянных домиков, нашел он тоже небольшой домик, неопределенного цвета, серый не от краски, а от времени и ветхости. Подивился он, в каком плохом домишке поселились его прежние господа. Такая ли бывшая их усадьба на селе! Ивашка въехал на грязный двор и, увидя какую-то женщину, выглядывавшую из сарая, переспросил на всякий случай, здесь ли живет барин, Капитон Иванович Воробушкин,
– Здеся, здеся, – отозвалась женщина, – тебе что нужно? Дело какое? Ты повремени… У них ныне с утра шум.
Ивашка, вылезший из саней, вопросительно глядел на женщину.
– Повремени, – продолжала она, – с утра шум… Подрались еще до обедни. Чего глаза выпучил?
Ивашка прислушался, и действительно, в маленьком сереньком домике слышались голоса, и, несмотря на то, что он давно не видал Капитона Иваныча и его супруги, он узнал голоса обоих.
Ивашка спросил про Улю. Женщина сказала, что барышня у себя наверху, и вызвалась пойти ее назвать.
Через несколько минут показалась на крыльце красивая, стройная фигурка в простом белом платьице и удивленно оглядела двор. Уле странным показалось, что какой-то приезжий, чужой человек спрашивает ее, и, ожидая каждый день какой-нибудь неприятной нечаянности, она уже испугалась известия. Но вот она увидела приезжего и опрометью бросилась к нему и повисла у него на шее.
– Иваша! Иваша! – залепетала она и, не имея сил от радости произнести что-либо, молча потянула его за руку в дом.
– Пойдем ко мне, – шепнула она в сенях, – у нас внизу с утра идет война. Бедный Капитон Иваныч! Чую, что из-за меня.
Девушка провела Ивашку к себе в мезонин, усадила и стала расспрашивать. Ничего особенного не мог ей передать молодой парень. Единственное известие, которое могло затронуть Улю за живое, была смерть матери Ивашки и ее кормилицы, о которой она ничего еще не знала. Скоро все новости Ивашки истощились.
– Ну, ты что? Как поживаешь? – спросил он Улю.
Грустно взглянула она в лицо своего молочного брата, вздохнула и понурилась.
– Что я? Всякий день жду, что попаду Бог весть куда. Капитон Иваныч ко мне ласков по-старому и из-за меня много терпит. А уж Авдотья Ивановна, Бог с ней!.. Не мне одной от нее плохо приходится. У нас ведь, Иваша, всякий день крик и ссоры. Капитон Иваныч с утра до вечера пропадает из дому, уж больно ему тошно становится от нее.
– А она, верно, к тебе привязывается, – заметил Ивашка, – ведь ей нужно с кем-нибудь браниться.
– Да, ко мне, – отозвалася Уля и задумалась.
Видно было, что она особенно озабочена какой-то одной мыслью. Раза три или четыре во время веселой и радостной беседы с Ивашкой она задумывалась и вдруг не слушала, что он говорит.
Ивашка хотя давно не видел ее, но прежде хорошо знал и угадывал малейшее движение ее души.
– Да ты что? С тобой что? Замуж тебя, что ли, прочат силком? – спросил он наконец.
– Нет, какое замуж… Кто на мне женится!.. Я и здесь, в Москве, с тем же прозвищем осталась, как и вас на селе с тобой звали…
– Мужицкие дворяне! – рассмеялся Ивашка. – Ну, так, знать, Авдотья Ивановна на тебя замышляет что-то?
– Конечно.
– Да что же такое?
– После скажу. Теперь ты лучше расскажи, что будешь делать, как будешь жить. Здесь, в Москве, мудрено, и я все о тебе думала. Тебе бы в певчие поступить к какому-нибудь вельможе. Житье хорошее, берегут ради голоса. Только одно: вина пить не позволяют; да ведь ты же и не охотник до него.
– Да, это хорошо, – задумчиво проговорил Ивашка, – а покуда я просто куда батраком наймусь.
– Лакеем? – спросила его Уля.
– Это что такое?
– А это здесь зовут. Значит, служитель в горнице.
– Чудно, – отозвался Ивашка.
Уля хотела что-то заговорить, но к ней в комнату пришла кухарка Агафья и позвала вниз к барыне.
– Авдотья Ивановна беда как осерчала, – объяснила она. – Увидела она его лошадь с санками, спросила: чьи? Сказала, что он у вас сидит, она и озлилась. Идите вниз.
Ивашка немножко перетрухнул от непривычки, но Уля была совершенно спокойна и ясно улыбалась.
– Ты, голубчик, не робей; ты вот отвык… а мне теперь скажи, что она хоть с ножом в руке бегает, так я не боюсь. Хуже того, что было, не будет.
И друзья отправились вниз. Капитона Иваныча уже не было дома, и внизу у Авдотьи Ивановны сидела в гостях ее приятельница, мещанка Климовна, вдова расстриги попа, с которой у барыни были теперь всегда разные тайны.
«Распопадья», как называл ее Капитон Иваныч, исполняла разные поручения разных барынь. Она была вхожа во все московские дома, знала все московское барство и являлась ежедневно, но, конечно, с заднего крыльца и через девичью. Она, подобно Воробушкину, знала всю Москву, и вся Москва ее знала, но встречала презрительно.
Теперь она сидела у Авдотьи Ивановны, ела принесенный ей из кухни студень и таинственно, шепотом, объясняла Авдотье Ивановне, что она все ее мудреное дело справила, что не нынче завтра все будет кончено.
– И про Сидорку-портного там сказано, и про попугая сказано. Все как следует! – таинственно говорила Климовна. – От меня, стало быть, известиться?
– Ну да, от вас. Вы укажете, где попугай и где портной. Ну ладно… Только бы мой сусальный петух не взбунтовал через меру… – прошептала Авдотья Ивановна задумчиво.
Когда Уля вошла в горницу, обе прекратили свою тайную беседу. Климовна, хитро улыбаясь, расцеловалась с Улей, Авдотья Ивановна сердито спросила: где Ивашка?
– Тут, в прихожей… прикажете позвать?
– Вестимо. Он, поганец, должен был прямо к барыне идти, как приехал, а не к тебе на вышку. Хоть и продана вотчина и не мой он, а все-таки должен уважить барыню.
Ивашка вошел в горницу, слегка робея, и поклонился.
– Здравствуй, шальной; зачем пожаловал? Думал, Москва без тебя не простоит…
– Всем миром, Авдотья Ивановна, порешили и отправили меня. Сказывают: не гожусь.
– Что же? Тут-то, полагаешь ты, что годишься? Что ты будешь делать?
Ивашка объяснил, что наймется куда-нибудь в услужение, а до тех пор просил позволения остаться в доме у барыни.
Авдотья Ивановна задумалась. С одной стороны, она понимала, что к мужнину полку прибыло, что Капитон Иваныч, Уля и Ивашка будут теперь заодно и против нее в каком бы то ни было деле. С другой стороны, Авдотья Ивановна уже разочла, что можно отобрать у Ивашки санки и коня за постой и продать.

