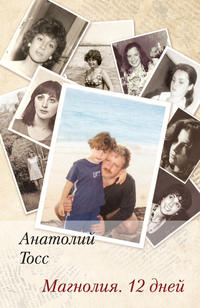
Магнолия. 12 дней
Все же, наверное, я переборщил. Она выглядела старше меня, намного старше, лет на пять-шесть, и моя наглость могла показаться мальчишеской, глупой, наивной. Но ни глупым, ни наивным я себя тогда не чувствовал. Повторю, мне было девятнадцать, и самоуверенность просто распирала меня, просто била наотмашь во все стороны.
Небольшая, вполне изящная рука в белой, как костюм, перчатке поползла к лицу, висящая на ней палка повисла в воздухе, закачалась наподобие теряющего разбег маятника. Очки отделились, оголили глаза, оставив их незащищенными. Не защищенными от моего взгляда.
Ну вот я и ошибся. У нее оказались светлые глаза, почти прозрачные, из тех, которые умеют менять оттенок. Как я мог так непростительно ошибиться! Зато теперь, дополненное глазами, лицо приобрело законченную цельность, и получалось, что прозрачность добавила ему, как бы это сказать, двусмысленность, что ли. Может быть, даже легкий налет бесстыдства. Хотя нет, бесстыдство – неправильное слово. А вот ирония, во всяком случае, по отношению ко мне, к моим словесным потугам в них отчетливо просвечивала. Этакий легкий налет циничности, будто она знала о жизни нечто, мне неведомое, и это дополнительное знание ее забавляло.
– Не хотите знакомиться? Странно. А получается у вас совсем неплохо. Я уже готова была согласиться. – Голос чуть с хрипотцой, как сейчас бы сказали, «секси» голос, губы, улыбаясь, даже не пытаются скрыть веселую, лучистую, разлетающуюся во все стороны иронию – я сразу почувствовал себя глупо. – Хотя вообще-то я дорогу хотела спросить. Похоже, заблудилась. Уже час, как катаюсь, забралась непонятно куда, как выбраться, не знаю, и ни души. Вы первый, кто мне попался.
Вот так возник повод для моей ответной, не менее лучистой иронии:
– Думаете, я попался?
Она оценила несложный каламбур, засмеялась искренне, громко.
– Вот это забавно. – Теперь она смотрела на меня с явным интересом. – Вы вообще, похоже, забавный.
Я лишь пожал плечами, мол, это вам решать, делать выводы, заключения. А мое дело – оказать попавшей в беду девушке посильную мужскую помощь.
– Так я же говорю, у вас нет выхода. Без меня вы окончательно заблудитесь, потеряетесь и замерзнете до нехорошей простуды. Но не бойтесь, я вас извлеку отсюда, вытащу на поверхность цивилизации. Куда вас вывести?
– На Открытое шоссе, я оставила машину у самого входа в лес. Кажется, трамвайная остановка называется «Детский санаторий».
Я не хотел, но брови сами поползли вверх. В те застойные времена молодые женщины редко приезжали на собственных автомобилях на Открытое шоссе покататься на лыжах. Я поднялся со своего деревянного столбика, двинул прилипшие к клейкому снегу лыжи, они, прогибаясь и дрожа, подтащили меня к заплутавшей девушке совсем близко, почти вплотную.
– Ну что же, двинемся. Кстати, как вас окликать, если вы снова надумаете потеряться?
– По имени окликайте.
Я развел руками.
– Я понимаю, что по имени. По какому?
Усмешка снова тронула ее губы, теперь я рассмотрел их, полные, словно припухшие. Даже посреди этого полностью блестящего дня – блестящего снега, солнца ее губы все равно выделялись особым, неестественным блеском. Наверное, такая помада, сметливо догадался я.
– Мила, – сказала она и протянула руку в белой перчатке.
Я долго стягивал свою, зубами перехватил прилипшую кожаную оболочку на указательном пальце, потянул за нее, потом на среднем, перчатка толчками сползала с ладони.
До чего же это было приятное касание. Я задержал узкую хрупкую ладошку в руке, мой взгляд просто впечатался в ее лицо – в пухлые губы, подернутые легкой усмешкой, в бесцветные, почти прозрачные, пропускающие сквозь себя глаза, совершенно нереальные, будто смотришь «sci-fi» фильм про инопланетных пришельцев. И все это в целом – глаза, губы, яблочки приподнятых скул, холодность ее перчатки в моей живой, разгоряченной ладони – наложилось на бесконечную пустоту и безжизненность леса, на его безмолвность, на уходящую вдаль просеку.
На мгновение я представил нас двоих со стороны, со мной такое бывает, будто второе, призрачное, «я» отделяется, отступает в сторону и наблюдает за первым, телесным, «я» – две одинокие фигуры почти столкнулись, почти придвинулись вплотную, лыжи переплелись, наехали одни на другие, а они стоят и вглядываются, прощупывают друг друга глазами. А вокруг беспредельная сиротливость, будто мир закончился, оборвался, лишь на свете остались только эти двое. Сюр, зазеркалье. Именно в зазеркалье я себя и ощутил. Впрочем, лишь на несколько секунд.
А потом раздвоенность исчезла, оба мои «я» сошлись в одно, и так, объединившись, вернулись в свое нагловато-нахрапистое состояние, и, не отпуская ее ни рукой, ни глазами (чему она, впрочем, нисколько не противилась), я добавил:
– А я прилежно откликаюсь на имя Толя. Если вам что-либо потребуется, оглянитесь и начните фразу со слова «Толя», так я пойму, что это вы ко мне обращаетесь.
– Почему надо будет оглядываться? – улыбка больше не сходила с ее губ.
– Потому что вы пойдете впереди, а я попытаюсь от вас не отставать. И оттуда, сзади буду вас направлять. Если крикну влево, то это означает влево, а если крикну.
– Ну да, ну да, – перебила она меня. – Понимаю.
Я кивнул и только теперь отпустил ее руку.
Почему я решил ехать сзади? Если бы я ехал первым, я бы не видел, как перетянутая спортивными брюками оттопыренная попка шевелилась и перекатывалась половинками, будто они на пару исполняли какой-то свой, давно заученный туземный танец, где основная хореографическая идея заключалась в противофазе. Нет, не правильно, не основная идея – всего лишь одна из идей. Вот где анимация, вот где герои еще не слепленных мультфильмов – будто два оживших существа выделывают замысловатые кренделя, то сталкиваясь, то разъезжаясь, то подпрыгивая в каком-то им одним известном ритме.
Я катился, несильно отталкиваясь палками, чтобы подстроиться под шаг Милы – легкий, но все же не такой широкий, как мой, и пытался подобрать подходящий музыкальный такт к замысловато перемещающимся половинкам. Наконец остановился на латиноамериканской румбе, если я правильно помнил ее румбовский мотивчик. Так продолжалось минут десять, я мурлыкал зажигательную мелодию себе под нос, а два мультяшных существа впереди, подстраиваясь под мой латинский ритм, казалось, получали не меньшее удовольствие от своего танца, чем я.
Вскоре до меня дошло, что двигаться гуськом в полном, придурковатом молчании как-то неправильно, женщина ведь, как известно, впитывает мужчину ушами. Пришлось оторваться от аппетитного, соблазнительного зрелища, соскочить с лыжни, чуть подбавить газку и, плавно вырулив на нетронутый снег, поравняться с сосредоточенно отталкивающейся палками Милой. Которая, если бы не черные густые волосы, легко могла бы слиться с зимним пейзажем в своем маскировочном белом костюме. Увидев меня рядом, она обернулась вполоборота, опять растянула губы в доброжелательной улыбке. Надо было что-нибудь сказать, не катиться же рядом молча, как идиот. И я сказал, втискивая слова в сразу сбившееся дыхание:
– А вы вообще-то вот так не боитесь? Сначала заблудились в чужом, незнакомом лесу. Потом простодушно доверились мне. А я ведь тоже совершенно для вас чужой и незнакомый, как лес. – Тут мне пришлось выдержать паузу, чтобы заглотнуть новую порцию воздуха.
Мила ею воспользовалась:
– Намекаете, что можете представлять собой опасность?
– А почему бы и нет, – кивнул я. – Вы же не знаете, может, я маньяк какой агрессивный, может, у меня здесь берлога в самой чаще припрятана, и вам в ней придется теперь жить до старости, питаясь орехами да желудями.
Она отреагировала с ходу, без задержки, без запинки, будто ответ был заготовлен заранее:
– А чего ж бояться, – и пожала плечами. – Я в берлоге еще никогда не жила. Как вы там, кстати, обогреваться собираетесь? Ну, пока лето не наступило. У вас там заготовки имеются? Дрова или керосин? Одним словоблудием ведь не согреешься, требуется что-нибудь понадежнее, попрактичнее…
Какие там заготовки? Я даже ответ заготовить не успел.
– Только ведь нет у вас никакой берлоги. – Женские щечки и губки выразили сожаление, притворное, кокетливое. – Увы, увы, – подытожила она.
И вот эти два слитных «увы» как-то так прозвучали, даже не с сожалением, а скорее подвели черту. Словно опять подразумевали какое-то знание, которым мне овладеть, как ни старайся, не дано.
От ее тона, подбитого высокомерием, будто она имеет право говорить со мной вот так, свысока, я почему-то сразу ощутил вялую растерянность; так чувствует себя ребенок, заигравшийся с взрослым, который сначала разделил детскую игру, а затем, когда она наскучила, легко и беззастенчиво ее оборвал.
Мои потуги обворожить Милу мне самому сейчас показались жалкими, плоскими, прямолинейными, скудно и насильственно выжатыми. Я тут же почувствовал скованность, будто что-то плотное и прочное внутри меня надломилось, опало, поникло – задор, что ли, кураж, порыв, потребность удивить, ошеломить. А вместе с ними измельчился и притух еще и интерес к самой Миле, желание углубиться вместе с ней в только что зародившееся приключение. Я же говорю, скованность завладела мной, всем моим телом, даже лыжный шаг утратил легкость, в него тоже, как и во все мое подпиленное, покосившееся существо, вмешались усилие и натужная вымученность.
Минут через пятнадцать лес неожиданно резко оборвался, оголив подступившие к самому его краю дома – нелепые, пугающие темными прорехами многочисленных подъездов пятиэтажки, слишком ровные, словно обрубленные кубики девятиэтажек. Все они казались бесцветными, будто больными, перебинтованными толстыми жгутами темной краски на стыках блоков – начинающийся город даже сейчас, в этот хрустально солнечный день выглядел серым, запущенным и грязноватым на фоне природы.
Мы подкатили к неестественно чистеньким, видимо, недавно вымытым желтым «Жигулям», послушно уткнувшимся тупым прямоугольным рылом в длинный, вытянутый вдоль тротуара сугроб. Мила легко соскочила с лыж, подняла их, открыла ключом машину, достала из бардачка тряпочку, быстрым, почти профессиональным движением стерла налипший снег с гладкой поверхности лыж. Не перчаткой стерла, а специально приготовленной тряпочкой, отметил я. Аккуратная девушка.
– Толь, давайте я вас до дома подвезу, – предложила она, вдевая в кругляшки палок загибающиеся концы лыж. И так у нее буднично получилось – и это простоватое «Толь», и невинная естественность интонации, что моя скованность сразу стала таять, словно на ее заледеневший сгусток плеснули из ушата теплой водой. Впрочем, чтобы растопить полностью, ушата оказалось недостаточно – я только пожал плечами:
– Да тут и на лыжах недалеко.
– Не выдумывайте. Тоже мне занятие, по тротуарам шлепать, лыжи разбивать.
Она повернулась ко мне, двусмысленная, скрывающая потаенное дно улыбка казалась выжженной на лице, словно не сходила с него никогда. А вкупе со светлыми глазами, которые здесь, в перемешанной яркости снега и солнца, достигли полной бесцветной прозрачности, все ее лицо вдруг обрезало реальность, словно вышло за ее пределы. Во всяком случае, реальность московской окраины под названием Открытое шоссе.
– А потом, как еще мне вас отблагодарить? Вы же вызволили меня из беды. Я бы одна не выбралась, до сих пор блуждала бы в лесу. И даже никакой награды не потребовали.
И я согласился. То ли ее выпуклое кокетство подействовало, то ли все та же неопределенная двусмысленность улыбки, но я расстегнул крепления, тяжело переступил отвыкшими от пешеходной ходьбы ногами, нагнулся, поднял лыжи, стал сбивать с них налипший снег. Никакой специальной тряпочки у меня, конечно, заготовлено не было, поэтому в ход привычно пошла сначала кожа перчатки, а затем уже и руки. Похоже, Мила была права – я совершенно был не по заготовкам.
Снег на лыжах упирался, сбивался в плотные клейкие бугорки, не хотел отваливаться от некогда гладкой, скользкой поверхности. Вот у Милы он отслоился в мгновение, а мне воспротивился. Наверное, руки ее были более умелые либо тряпочка какая-то особенно удачная.
Хозяйка «Жигулей» забросила весь лыжный инвентарь на крышу автомобиля, на железный, прикрепленный к нему багажник. Я было бросился помогать, но не успел – все длинные, потерявшие гибкость палки уже были прикручены какой-то специальной резинкой с крючками, надежно и безопасно.
Потом я засовывал себя в машину, пристраивался на сиденье, тело, привыкшее к свободному, ничем не стесненному движению, противилось и не желало сгибаться, скрючиваться, вмещаться в тесное, сдавленное пространство. А вот Мила заскочила легко, снова рассекла лицо напополам черной полоской очков, завела замерзший автомобиль, подождала минуту, давая ему отогреться.
– В какую сторону едем? – Она посмотрела на меня. Теперь на лице осталась только улыбка да приподнятые яблочки скул. Как ни странно, мне не хватало прозрачности глаз, видимо, я уже стал привыкать к ней.
В принципе использовать автомобиль для транспортировки меня к дому была полностью надуманная идея. Прикручивать лыжи к багажнику, разогревать застоявшийся мотор заняло больше времени, чем утрамбовывать резиновыми шинами скрипучий снег на плохо очищенной мостовой. Мы протиснулись в узкие проезды между несколькими домами, обогнули школьное здание, библиотеку – центр местной культурной жизни – и уверенно тормознули у единственного подъезда единственной в округе двенадцатиэтажной башенки.
Как совсем недавно трудно было засовывать свое тело внутрь «жигуленка», так теперь неохота было его оттуда извлекать. Вот я и не спешил. К тому же передо мной стояла дилемма – либо поблагодарить милую Милу и распрощаться с ней, прихватив в качестве заложника семизначный номер ее телефона. Либо, невзирая на недавно скомканные и еще не полностью расправившиеся чувства, все же двинуть сегодняшнее приключение в непроторенное русло и пригласить двусмысленную девушку попить чайку в моей совершенно не подготовленной к женским визитам среднегабаритной квартире. Не подготовленной потому, что в ней поутру было не прибрано – ни постель, ни разбросанные по комнате вещи, ни кухня с остатками скорого родительского завтрака, с недопитым кофе в чашках на усыпанном крошками столе.
Кроме того, наше знакомство развивалось слишком уж стремительно, словно повторяя сюжет какого-нибудь не самого удачного мексиканского фильма – неожиданная встреча в романтическом лесу, загадочная девушка с выделяющейся попкой и не менее выделяющимся автомобилем. Она естественно подвозит случайного знакомого до дома, он приглашает ее подняться, а дальше, сами понимаете, объятия, незастланная постель, ну и все такое прочее – иными словами, шаблон, трафарет и вообще одно сплошное клише. А я свою жизнь по шаблону, тем более мексиканскому, строить не собирался.
Но, с другой стороны, я ведь говорил, что я фаталист. Даже тогда, в девятнадцать лет, я уже понимал, что все неслучайно, и если тебе подан знак, то прими его, расшифруй и следуй его указаниям. Потому что, повторю, ничего не случайно, и если упустишь, то все, что было задумано и предназначено, может легко перетереться в труху и никогда не произойти. И будешь потом гадать всю жизнь: а что было бы, если бы. И никогда не узнаешь.
Вот и сейчас, на плохой ли мексиканский кинофильм походила наша лесная встреча или на хороший итальянский – не мне судить. Потому как не кинофильм это был вовсе, а моя собственная жизнь, и глупо упускать шанс, который так щедро подкидывает балующая тебя озорница-судьба. И не становись ты расточительным транжирой – не пренебрегай ниспосланными тебе дарами.
А значит. Я взглянул на девушку на водительском сиденье и сказал:
– Как, Мил, насчет чашечки теплого чайку и розетки вишневого варенья. Совершенно изумительного, благоухающего, обещаю, словно в лето окунетесь. В него моя мама вложила кусочек своей души.
– Варенье с ягодками? – поинтересовалась привередливая девушка.
– С ягодками, – закивал я. – С пьянящими вишневыми ягодками. А ягодки с косточками, так что, когда будете лакомиться, не торопитесь, чтобы косточку не проглотить.
Она помедлила, видимо, прикидывая все «за» и «против», и вытащила ключ из замка зажигания.
Мы вышли из машины, я открутил с крыши свои лыжи.
– Давайте ваши тоже наверх затащим. Здесь, знаете, народ без лишних предрассудков, запросто сопрут, ни рука не дрогнет, ни глаз не моргнет.
Мила ничего не сказала, лишь махнула рукой, мол, будь что будет, и первой направилась к дому.
В подъезде хоть и светила тусклая лампочка, что уже было удачей, но все равно нас окутал сырой, утробный мрак – хоть на ощупь по стенке пробирайся вдоль этой затхлой блочной действительности.
– Осторожно, здесь ступеньки, шесть штук, давайте считать вслух. – Я протянул руку, нащупал ее перчатку, сжал. При счете «пять» Милин голос подключился к моему. Кнопку вызова лифта я уже различал, глаза приспособились к пещерному мраку, а в лифте зрение вообще восстановилось полностью.
Тесная, зажатая стенками кабинка лифта свела нас, как не сводил ни салон автомобиля, ни тем более просека леса, я даже немного смутился от неподготовленной близости. Вроде бы настолько близко, что полагается что-то предпринять, какую-нибудь обреченную попытку, но вот так, второпях, впопыхах и в общей лифтовой загаженности ничего обреченного предпринимать не хотелось. И вот, чтобы сгладить осаждающуюся в пустом воздухе неловкость, я сказал:
– Видимо, лифтовый проектировщик был крайне экономным человеком.
Мила кивнула, добавила:
– Или большим романтиком.
Я тут же уцепился за мысль, стал ее развивать:
– Точно, сближал людей. Бросал их в объятья. Даже если и захочешь, уже не вырвешься. Вот если бы мы с вами минут пять так поездили, представляете, какое между нами возникло бы взаимопонимание.
Тут мы как раз приземлились на моем одиннадцатом этаже.
– Ну вот, как всегда, времени для взаимопонимания и не хватило, – с деланым сожалением вздохнула девушка. В тусклом свете кабины ее лыжный костюм уже не казался таким белоснежным.
Беспорядок в квартире оказался куда более злостным, чем я предполагал. Будто, пока я отсутствовал, одежда сама повылезала из шкафов, книги попрыгали с книжных полок, и вместе с носками и нижним бельем все они безнаказанно пытались расползтись по пустынной, одичалой квартире. За этим занятием мы с Милой их и застали.
Пришлось разводить руками, извиняться:
– Беспорядок. Вы уж, Мил, не взыщите.
Всегда лучше в своих промахах признаваться самому, откровенно и вслух.
– Зачем вы так негативно? Не беспорядок, а колорит, – поправила меня девушка, присев на специальный коридорный стульчик и развязывая ботинки. Под ними оказались по-девичьи беленькие, по-девичьи аккуратные носочки. Носочки меня почему-то умилили, в них она смело, не попросив даже тапочек, потопала по не самому стерильному, уже как несколько дней не мытому полу.
– В любом случае на варенье с ягодками ни беспорядок, ни колорит не повлияют, – заверил я позитивную девушку.
Мы прошли на кухню. Я быстренько смахнул следы родительского завтрака в раковину – чашки с засохшей кофейной пенкой на стенках, тарелки с недоеденными, подсохшими огрызками бутербродов, скользнул влажной губкой по столу, сметая крошки в подставленную ладонь. Налил чайник, поставил на плиту. Мила сидела на спартанской кухонной табуретке, прислонившись спиной к стенке, с интересом наблюдая, как я хлопочу, провожая каждое мое движение своими бесцветными, безразличными глазами, которые сейчас раскрылись еще шире, завораживая, даже пугая своей потусторонней инопланетностью. Невнятная, плохо читаемая улыбка так и не сползала с ее полных губ, будто один раз, когда-то давно забравшись на них, впечаталась, вжилась, стала их частью, и губы, даже если бы пожелали, уже не в силах были бы избавиться от нее.
В целом, я чувствовал себя совершенно не в своей тарелке. В таком смятении пребываешь, когда нахрапом, в едином опрометчивом порыве, карабкаясь, цепляясь, взобрался на скалистую, почти отвесную кручу, а потом стоишь и не знаешь, как с нее слезать. Ни уверенности, ни разумного плана, одна тупая растерянность. Смотришь вниз и не понимаешь, а для чего, спрашивается, карабкался.
Именно так я чувствовал себя сейчас. Во-первых, в спокойном, неподвижном свете кухни стало совершенно очевидно, что она старше меня. Существенно старше. А еще опытнее, возможно, умнее, и то, что мне кажется приключением, успехом, победой, – для нее рутина, обыденность, возможно, даже привычка. Я вдруг осознал, что все, что я сегодня совершил, – спонтанно, как мне казалось, дерзко, на душевном подъеме, она предвидела заранее, а значит, это я, сам о том не подозревая, шел по заведомо просчитанному ею маршруту.
Иными словами, я перестал быть охотником, а превратился в добычу. Не исключено, конечно, что добывают меня для моей же пользы, возможно даже, что, добыв, она ухитрится сделать меня на какое-то время счастливым. Но я ведь родился охотником и уже привык быть охотником, вросся в свое природное предназначение и иным себя не мыслил. А значит, добыча из меня выходила во всех отношениях никудышная, вялая, ненатренированная, неуверенная, заведомо неудовлетворенная.
К тому же мой синий шерстяной спортивный костюм – допотопный, потертый, с вытянутыми коленками, который еще недавно отлично сочетался с лесом, с бесконечной снежной гладью, с накатанной легкой лыжней, здесь, в камерном спокойствии маленькой кухни, отягощал, рождал ненужные вопросы, в общем, не шел мне в зачет. Надо было что-то менять в этой кухонной расстановке сил, круто менять, радикально. И я нашел выход.
– Слушайте, Мил, хотите душ принять? Я вам полотенчико выделю. Совершенно чистое, просто девственное. Торжественно клянусь, ни разу не пользованное.
Она ничего не ответила, так и продолжала сидеть, прислонившись спиной к стене, только отрицательно покачала головой.
– Тогда, может, я быстренько в ванную запрыгну? Всего на две-три минуты, пока чайник не закипел, вы и не успеете соскучиться.
– Конечно, – только и ответила она. – Можете даже на пять минут.
– Вы точно не обидитесь? Не убежите, не скроетесь? – потребовал я подтверждения.
Она лишь махнула рукой.
– Не волнуйтесь, я верная, я дождусь.
«Верная – это хорошо», – подумал я и скрылся в ванной комнате.
Ах, какое это наслаждение – когда расчлененный на бесчисленные тонкие, упругие струйки поток рассыпается по твоему вспотевшему, пульсирующему кровяными мембранами, напряженному от полуторачасового движения телу. Это в лесу среди морозных снегов казалось, что ты разгорячен, что исходишь жаром, окутан его защитным облаком, но здесь, в ванне, под ублажающей теплотой оказывается, что все же насквозь промерз, просто перевозбужденная кожа не чувствовала медленно подкрадывающегося охлаждения. Теперь же она, впитывая живительные струи, влажный, белесый пар, наполнивший воздух, открылась доверчивыми порами и с жадностью ловила каждую каплю.
То ли от перепада температур, то ли состояния – в лесу собранного, напряженного, предельно сфокусированного, а здесь, в ванне, расслабленного, как бы опущенного в размягчающий раствор из теплоты, влаги и пара, – тело, все его рецепторы обострились, стали до боли чувствительны, остро реагируя на прикосновение невинных водяных струй. Даже внутренние органы, легкие, например, казалось, разжались, раскрылись, увеличились в объеме. А ведь, подумал я, вся тяжесть физических нагрузок – сбившееся дыхание, зудящие мышцы, учащенное, рвущееся за пределы сердцебиение, порой мучительное преодоление себя, – все искупается этим, казалось бы, невинным, легкодоступным, но божественным наслаждением.
Я обманул доверчивую девушку Милу. Не две-три, даже не пять минут я услаждал свою размякшую плоть, а все пятнадцать, наверное. Я бы еще дольше растянул удовольствие, но чувство долга, прежде всего перед брошенной на кухне девушкой да перед наверняка перекипевшим чайником, заставило меня закрутить скользкие керамические ручки кранов.
Только ступив на прохладный кафельный пол, я сообразил, что забыл прихватить с собой свежую одежду. Видимо, впопыхах, а может быть, это Мила своей запекшейся улыбкой выбила меня из колеи. Надевать же на обновленное тело пропотевший, холодный лыжный костюм было неверно. И для меня неверно, и для заждавшейся Милы. Ну и я ничего не надел. Просто обернул бедра длинным, широким полотенцем и вынырнул из жаркой ванной в прохладу квартиры.
Хотя предстать перед Милиным бесцветным взором полуобнаженным я не планировал, это, повторяю, получилось ненамеренно, я был совершенно невозмутим. Должен признаться – в счастливые беспечные времена моей юности я любил свое тело. Искренне, преданно и без сомнения взаимно. Подтверждая взаимность, тело послушно откликалось на любой мой каприз и с энтузиазмом выполняло все, чего бы я ни пожелал[2].
Мила так и сидела на табурете, прислонившись к стенке, но на столе уже стоял заварочный чайничек, пара розеток, наполненных маминым вишневым вареньем, чашки, ломтики белого хлеба на тарелке, масленка – в общем, Мила посамовольничала, похозяйничала, и вполне, надо заметить, уместно. Завидев приближающийся к ней обнаженный торс (мой торс), она ни своим прозрачным взглядом, ни завязшей в губах улыбкой не выразила ни малейшего удивления, напротив, с живейшим интересом стала меня разглядывать. А когда я подошел вплотную, можно сказать, завис над ней, касаясь полой полотенца ее расставленных коленок, лишь подняла на меня глаза и вопросительно наморщила лобик – лицо ее теперь выражало любопытство: мол, ну и что же дальше?