
Всемирная литература: Нобелевские лауреаты 1931-1956

Из иллюстраций к роману
В конце Уайтхолла, под сереющим на востоке небом, на миг появились башни Вестминстера. «Что-то нереальное даже в них, – подумал он. – А Майкл со своими причудами! Впрочем, это модно – социалистические убеждения и богатая жена. Самопожертвование и безопасность! Мир и процветание. Шарлатанское снадобье от всех болезней – десять пилюль на пенни!» Миновав газетную сутолоку Чэринг-Кросса, обезумевшего от политического кризиса, сэр Лоренс повернул налево, к издательству Дэнби и Уинтера, где его сын состоял младшим компаньоном. Новая тема для книги только что зародилась в мозгу, уже подарившем миру «Жизнь Монтроза», «Далекий Китай» – книгу о путешествиях на Восток, и фантастический диалог между тенями Гладстона и Дизраэли, озаглавленный «Дуэт». С каждым шагом, уводившим сэра Лоренса от «Шутников» на восток, его прямая тонкая фигура в пальто с каракулевым воротником и худое лицо с седыми усами и черепаховым моноклем под темной подвижной бровью казались все более редким явлением. Но он стал почти феноменом в этом унылом переулке, где тележки застревали, словно зимние мухи, и люди проходили с книгами под мышкой, будто шли учиться.
Он почти дошел до дверей издательства, когда навстречу ему показались двое молодых людей. Один из них, конечно, его сын; он после женитьбы стал одеваться много лучше и, слава богу, курит сигару вместо этих вечных папиросок. А вот другой – ах да, поэт, любимец Майкла, был у него шафером – идет, закинув голову, велюровая шляпа, и лицо какое тонкое!
– А, Майкл!
– Алло, Барт. Ты знаком с моим родителем, Уилфрид? Это – Уилфрид Дезерт, автор «Медяков». Настоящий поэт, Барт, верно говорю! Непременно прочтите! Мы идем домой. Пойдемте с нами.
Сэр Лоренс повернул.
– Что нового у «Шутников»?
– «Le roi est mort»! Лейбористы уже могут начинать свое вранье, Майкл, – выборы назначены на следующий месяц.
– Барт вырос в те дни, Уилфрид, когда люди еще не имели понятия о Демосе.
– Скажите, мистер Дезерт, а вы-то находите что-нибудь реальное в нынешней политике?
– А разве для нас на свете есть что-нибудь реальное, сэр?
– Да, подоходный налог.
Майкл засмеялся.
– Кроме дворянского звания, нет ничего лучше простодушной веры.
– Предположим, твои друзья придут к власти, Майкл; отчасти это неплохо, они бы выросли немного, а? Но что они смогли бы сделать? Могут ли они воспитать вкус народа? Уничтожить кино? Научить англичан хорошо готовить? Предотвратить угрозу войны со стороны других стран? Заставить нас самих растить свой хлеб? Остановить рост городов? Разве они перевешают изобретателей ядовитых газов? Разве они могут запретить самолетам летать во время войны? Разве они могут ослабить собственнические инстинкты где бы то ни было? Разве они вообще могут что-нибудь сделать, кроме как переменить немного распределение собственности? Политика всякой партии – это только глазурь на торте. Нами управляют изобретатели и человеческая природа; и мы сейчас в тупике, мистер Дезерт.
– Вполне согласен, сэр.
Майкл пыхнул сигарой.
– Оба вы – старые ворчуны!
И, сняв шляпы, они прошли мимо Гробницы.
– Удивительно симптоматично – эта вот вещь, – заметил сэр Лоренс, памятник страху… страху перед всем показным. А боязнь показного…
– Говорите, Барт, говорите, – сказал Майкл.
– Все прекрасное, все великое, все пышное – все исчезло! Ни широкого кругозора, ни великих планов, ни больших убеждений, ни большой религии, ни большого искусства – эстетство в кружках и закоулках, мелкие людишки, мелкие мыслишки.
– А сердце жаждет Байронов, Уилберфорсов, памятника Нельсону. Бедный мой старый Барт! Что ты скажешь, Уилфрид?
– Да, мистер Дезерт, что скажете?
Хмурое лицо Дезерта дрогнуло.
– Наш век – век парадоксов, – проговорил он. – Мы все рвемся на свободу, а единственные крепнущие силы – это социализм и римско-католическая церковь. Мы воображаем, что невероятно многого достигли в искусстве, а единственное достижение в искусстве – это кино. Мы помешаны на мире и ради этого только и делаем, что совершенствуем ядовитые газы.
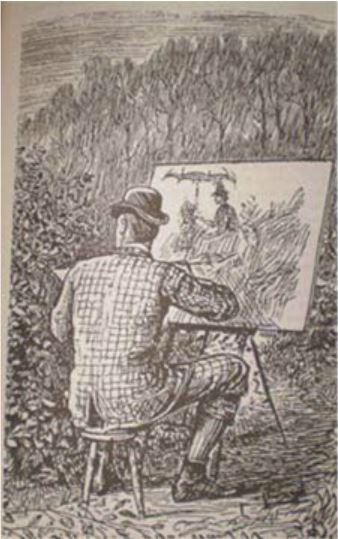
Из иллюстраций к роману
Сэр Лоренс поглядел сбоку на молодого человека, говорившего с такой горечью.
– А как дела в издательстве, Майкл?
– Что ж, «Медяки» раскупаются, как горячие пирожки, и ваш «Дуэт» тоже пошел. Как вы находите такой новый текст для рекламы: «Дуэт», сочинение сэра Лоренса Монта, баронета. Изысканнейшая беседа двух покойников». Должно подействовать на психологию читателя! Уилфрид предлагал: «Старик и Диззи – по радио из ада». Что вам больше нравится?
Но тут они оказались рядом с полисменом, поднявшим руку перед мордой ломовой лошади, так что ее движение разом остановилось. Моторы автомобилей жужжали впустую, взгляды шоферов вперились в запретное для них пространство, девушка на велосипеде рассеянно оглядывалась, держась за край фургона, на котором боком сидел юноша, свесив ноги в ее сторону. Сэр Лоренс снова поглядел на Дезерта. Тонкое, бледное и смуглое лицо красивое лицо, но какая-то в нем судорожность, как будто нарушен внутренний ритм; в одежде, в манерах – никакой утрировки, но все же чувствуется некоторая вольность; в нем меньше живости, чем в этом веселом повесе, собственном сыне сэра Лоренса, но такая же неустойчивость и, пожалуй, больше скептицизма – впрочем, он, наверно, способен на глубокие переживания! Полисмен опустил руку.
– Вы были на войне, мистер Дезерт?
– О да!
– В авиации?
– И в пехоте – всего понемногу.
– Трудновато для поэта!
– О нет! Поэзией только и можно заниматься, когда тебя в любую минуту может разорвать в клочки или если живешь в Пэтни .
Бровь сэра Лоренса приподнялась.
– Разве?
– Теннисон, Браунинг, Вордсворт, Суинберн – вот кому было раздолье писать: ils vivaient, mais si peu.
– А разве нет третьего благоприятного условия?
– Какого же, сэр?
– Как бы это выразиться… ну, известное умственное возбуждение, связанное с женщиной?
Лицо Дезерта передернулось и словно потемнело.
Майкл открыл французским ключом парадную дверь своего дома…
(«Белая обезьяна», перевод Р.Райт)При жизни Голсуорси удостоился почетных степеней Тринити-колледжа, Дублинского университета, а также почетных степеней Кембриджского, Оксфордского и Принстонского университетов, университетов Манчестера и Шеффилда.

Одно из последних выступлений Д.Голсуорси на радио
Необходимо сказать и о широко известных теоретических работах английского реалиста: «Аллегория о писателе» (1909), «Туманные мысли об искусстве» (1911), «Искусство и война» (1912), в которых он горячо отстаивает свои эстетические взгляды. Для Голсуорси искусство неразрывно связано с жизнью, поэтому он всегда принципиально противостоит эстетизму. «Любой художник, живописец, музыкант или писатель – это паломник, – рассуждал он, – к какой святыне он идет на поклонение? Чей лик узреть бредет он безводными пустынями, неся крест своего таланта? Лик красоты и лик истины – или морду скачущего сатира и золотого тельца? Какова цель и предназначение искусства?.. На вопрос, ради чего мы отдаемся искусству, есть только один верный ответ: ради большего блага и величия человека». Именно в этих словах и заключено основное достоинство того, что создал за свою долгую творческую жизнь Голсуорси.
Стоит добавить о значительном количестве экранизаций «Саги о Форсайтах», созданных английским и американским телевидением и имевшим успех во всем мире. Русскоязычный читатель, конечно, знает имя Голсуорси, однако многих пугает объем его великой книги, хотя читается она в замечательных переводах необыкновенно легко…
Глава III
Бунин Иван Алексеевич
1933, Россия-Франция

Иван Бунин
Иван Алексеевич Бунин (22 октября 1870 года – 8 ноября 1953 года), русский писатель и поэт, родился в имении своих родителей под Воронежем, в центральной части России. Отец писателя, Алексей Николаевич Бунин, происходил из старинного дворянского рода, восходящего к литовскому рыцарству XV века. Мать, Людмила Александровна Бунина, урожденная Чубарова, также принадлежала к дворянскому роду. Из-за отмены крепостного права в 1861 году и весьма нерачительного ведения дел хозяйство Бунина и Чубаровой находилось в чрезвычайно запущенном состоянии, и к началу XX века семья была на грани разорения.
До 11 лет Иван воспитывается дома, а в 1881 году поступает в Елецкую уездную гимназию, однако через четыре года из-за финансовых затруднений семьи возвращается домой, где продолжает образование под руководством старшего брата Юлия, человека необычайно способного и придерживающегося крайне радикальных взглядов. Но аристократ по духу, Иван Бунин не разделял страсти брата к политическому радикализму. Юлий же, с блеском окончивший университет, прошел с Ваней весь гимназический курс. Они занимались языками, психологией, философией, общественными и естественными науками. Именно Юлий оказал большое влияние на формирование вкусов и взглядов Бунина и, чувствуя литературные способности младшего брата, познакомил его с русской классической литературой, посоветовал писать самому.

Гимназия в Ельце, где учился И.Бунин
Бунин с увлечением читал Пушкина, Гоголя, Лермонтова, а в 16-летнем возрасте начал писать стихи сам. В мае 1887 года журнал «Родина» напечатал стихотворение «Нищий» шестнадцатилетнего Вани Бунина. С этого времени началась его более или менее постоянная литературная деятельность, в которой нашлось место и для стихов, и для прозы.
Внешне стихи Бунина выглядели традиционными как по форме, так и по тематике: природа, радость жизни, любовь, одиночество, печаль утраты и новое возрождение. И все же, несмотря на подражательность, была в бунинских стихах какая-то особая, только ему одному присущая интонация.

И.Бунин и А.Чехов. 1900 год
Не имея средств к существованию, Иван Бунин в 1889 году идет работать корректором в местную газету «Орловский вестник» и вскоре влюбляется в сотрудницу редакции Варвару Пащенко, с которой, вопреки родительской воле, в 1892 году отправляется на Украину, в Полтаву. Их отношения продолжались до 1894 года, когда Пащенко вышла замуж за друга Бунина, писателя А.Н. Бибикова.
Первый томик стихов Бунина вышел в свет в 1891 году в приложении к одному из литературных журналов. Классические по стилю, стихи Бунина были насыщены чудесными образами природы – свойство, характерное для всего будущего поэтического (да и прозаического) творчества писателя. В это же время он пробует писать рассказы, которые появляются в различных литературных журналах, вступает в переписку с А.П. Чеховым. Спустя четыре года, в 1895 году, писатели встречаются и становятся близкими друзьями. Несмотря на определенное сходство, тематика и стиль их произведений, конечно же, совершенно различны. Свойственная Бунину традиционная манера повествования с упором на сюжет и описательность в корне отличается от новаторской краткости Чехова. Вообще, как и его консервативно настроенные друзья, пианист и композитор Сергей Рахманинов и певец Федор Шаляпин, Бунин придерживается традиционных взглядов на искусство.
В начале 90-х годов XX века Бунин находился под влиянием философских идей Льва Толстого, таких, как близость к природе, необходимость занятий ручным трудом, непротивление злу насилием. Тем не менее, когда они встретились в 1894 году, Бунин был разочарован утопичностью взглядов своего кумира. Впрочем, это никак не помешало ему всегда восхищаться реализмом Толстого и считать его величайшим из русских писателей.
С 1895 года Бунин живет в Москве и в Петербурге.
Литературное признание пришло к писателю после выхода в свет таких рассказов, как «На хуторе», «Вести с родины» и «На краю света», посвященных голоду 1891 года, эпидемии холеры 1892 года, переселению крестьян в Сибирь, обнищанию и упадку мелкопоместного дворянства. Свой первый сборник рассказов Бунин назвал «На краю света» («Край света», 1897).

Тот самый, первый сборник…
В 1898 году Бунин выпускает поэтический сборник «Под открытым небом», а также свой великолепнейший перевод «Песни о Гайавате» Г.Лонгфелло, получивший очень высокую оценку и удостоенный Пушкинской премии первой степени. Еще через год Бунин женится на Анне Николаевне Цакни, дочери греческого революционера, с которой он познакомился в Одессе. Брак был непродолжительным и несчастливым: их единственный сын, родившийся в 1900 году, умер в пятилетнем возрасте от скарлатины.
В начале 1899 года Бунин знакомится с Максимом Горьким, который привлек его к сотрудничеству в радикальном издательстве «Знание». Хотя возвышенный реализм в ядовитой смеси с «революционным романтизмом» и прогрессистские взгляды Горького не импонировали Бунину, он посвятил Горькому сборник стихотворений «Листопад» (1901) и продолжал сотрудничество со «Знанием» вплоть до революции 1917 года.

Портрет И.Бунина работы Л.Туржанского. 1905 год
В первые годы XX века Бунин активно занимается переводом на русский язык английских и французских поэтов. Им переведены поэмы А.Теннисона «Леди Го- дива» и Д.Байрона «Манфред», произведения Альфреда де Мюссе и Франсуа Коппе.
С 1900 по 1909 год издаются многие, теперь уже широко известные рассказы писателя – «Антоновские яблоки», «Сосны», – в которых звучит озабоченность Бунина в связи с разорением дворянских гнезд и миграцией городского и сельского населения.
В конце 1906 года Бунин влюбляется в Веру Николаевну Муромцеву, дочь члена Московской городской думы, и вступает с ней в гражданский брак. В годы, предшествующие революции, Бунин и Муромцева много путешествуют вместе. Влюбленный Бунин становится романтиком…
Когда подняли якорь, в толпу на спардеке вошли молодые, французы. И, заглядевшись на них, я не заметил, как поплыли кровли и купола Стамбула.
По глянцевитой мраморно-голубой воде черными кругами, показывая перо, шли дельфины. Утренние пары таяли в тепле и свете, но даль еще терялась в матовом тумане.
За мысом дорогу перерезал колесный пакебот, переполненный фесками, и, мелькнув, обдал теплым дымом. Старые стены дворца Константина и цветущие сады Сераля дремали, пригретые солнцем. В оврагах алело искривленное иудино дерево. Бледно-розовые минареты Софии уносились в небо…
Извиваясь, протянулись, вслед за Сералем, стены Феодосия, полчища кипарисов в Полях Мертвых… Стены кончились руиной Семибашенного замка… И сиренево-серый очерк Стамбула стал уменьшаться и таять. Справа шли обрывы плоского прибрежья, цвета пемзы. А налево, до нежно-туманной сини Принцевых островов, и впереди, до еще более туманных гор Азии, все шире разбегались сияющие среди утреннего пара заливы. Над их необозримой гладью кое-где висели дымки невидных пароходов…
Нижние палубы, заваленные грузом в Пирей и Александрию, наполняли фески и верблюжьи куртки, ласково- застенчивые улыбки и блестящие зубы, карие глаза и гортанный говор. Белыми коконами сидели на коврах закутанные женщины. Мечтательно играли четками хаджи в чалмах и халатах. Пели, пили мастику, страстно спорили и бились в кости греки, похожие на плохеньких итальянцев. Седобородый еврей в люстриновом пальто, в черной непримятой шляпе на затылок, с пейсами и поднятыми бровями, ел, уединенно сидя на крышке трюма, маслины с белым хлебом и обсасывал пальцы. В проходах несло кухонным чадом, теплом из стальной утробы мерно работающей машины, бегали белые повара с помоями. Наверху было чисто, просторно и солнечно.
Надо было надвигать на глаза фуражку, глядя на ослепительный блеск под левым бортом. За этим блеском расстилались и как будто наклонно скользили вдаль, в чуть видной Азии, зеркала Кианского залива. В миле, в полумиле от нас проходили итальянские и греческие грузовики с низкими бортами и голыми мачтами. Медленно, стройно и плавно тянулись в Стамбул, раскинувшись по всему морю, парусные барки. Одна бригантина прошла так близко, что вся закачалась и закланялась, попав в волну от парохода, и ярко озарила нас парусами. Под их серебристой тенью бежал загорелый человек в полосатой фуфайке. А зеленый хрусталь под бригантиной был так прозрачен, что видно было все дно ее.
Ют загромождали тюки прессованного сена. Матросы натягивали над ними тент. Близился полдень, и в проходах между сеном уже стоял жаркий сладковатый запах степи.
За завтраком в кают-компании открыли все иллюминаторы. По белому низкому потолку переливались зеркальные змеи, отраженные из-под левого борта водою и солнцем.
Часа в два слева заголубели каменистые прибережья древней Фригии. Близко прошла дикая горбина острова Марморы, и было весело смотреть на его блиставшие над водой обрывы, на сероватую зелень, покрывавшую его ребра и скаты, на белые точки какого-то селенья, рассыпанного в одной из его впадин.
Очень близко прошел перед вечером и Галлиполи, желтевший на пустынных обрывах справа.
В темноте, усеянной зоркими огнями, осторожно пропустила нас теснина Дарданелл.
II
Троя, Скамандр, Холмы Ахиллеса – сколько прелести в этих звуках! Равнина Скамандра серебрилась в эту ночь легким туманом и печальным лунным светом. Я видел ее смутно… Но это была уже Греция.
Шерстяная вишневая занавеска на открытом иллюминаторе в моей каюте стала утром, против солнца, прозрачно- красной. Сладкий ветер ходил по каюте. Быстро одевшись, я выбежал на недавно вымытую, еще темную палубу.
Был опять тонкий пар, полный блеска, легкий, влажный воздух. Но море было уже не то. Это было густое сине-лиловое масло. И впереди и влево по его равнине таяли в светлой дымке фиолетовые силуэты Архипелага. А направо тянулись зелено- сиреневые горы: Эвбея.
И все утро выгибалась мимо нас эта каменистая страна, вся в складках, как кожа бегемота. А позднее, когда солнце уже жгло плечи и я с изумлением глядел на это горящее масло, лизавшее пароход и порою плескавшее языками бирюзового пламени, открылись, наконец, «пустынные горы» Гимета.
По мертвенно-белым волооким статуям, по тысячелетним толкам о вакханках и дриадах, о богах и празднествах с цветами и хорами, – как будто в древней Греции только и делали, что праздновали, – тысячи тысяч людей рисуют себе какой-то пошлый элизиум вместо этой каменистой, сухой страны. Каков-то Акрополь? Все бинокли искали его, греки с юта с азартом тыкали пальцами вдаль. И вот нашел, наконец, я нечто смутно-желтевшее на каменистом холме, одиноко стоящем за морем крыш в долине, – нечто вроде небольшой дикой крепости. И, взглянув на этот голый холм пелазгов, впервые в жизни всем существом своим ощутил я древность.
В Пирсе, где в жаркий полдень мы бросили якорь, нас окружили гиды, комиссионеры отелей… Маленький быстрый поезд в полчаса доставил нас в Афины. По ослепительно-белым улицам еду я, выйдя из вагона. Высоко сидит на козлах кучер в соломенной шляпе, хлопая бичом над парой резвых кляч в дышле. Яркая лента неба льется над коридором улицы с белой мостовой и запыленными кипарисами, вытянувшимися между домами. Даже и в тени чувствуешь и видишь, как прозрачен сухой жаркий воздух. Спущены зеленые жалюзи на окнах, спущены маркизы над витринами. Быстро выезжаем, миновав площадь, королевский дворец и предместье, на меловое шоссе, – и этот холм пелазгов с руинами храмов поражает меня своей золотистой желтизной и наготой. Громадная подкова гор, громадная долина, а среди долины одиноко высится желто-каменный пик холма, воедино слитый двадцатипятивековой древностью с голым остовом Акрополя, – останками стен, колоннад и порталов. Зной и ветер давно обожгли кости этой чуждой и уже непонятной нам жизни. Медленно тянут лошади по мелу, хрустит щебень шоссе, кольцом охватившего холм и поднимающегося все в гору, – со всех сторон оглядываю я загорелый камень стен Акрополя и его желобчатых колонн… Наконец, коляска останавливается как раз против входа в гранитной стене, за которым широкая лестница из лоснящегося мрамора поднимается к Пропилеям и Парфенону… И на мгновенье я теряюсь… Боже, как все это просто, старо и прекрасно! Налево, в сквозной тени маслин, стоит другая коляска. Высокий, очень прямой человек с биноклем через плечо, в сером костюме и тропическом шлеме, и высокая худая женщина, тоже в сером шлеме, в фильдекосовых перчатках, с длинной тонкой палочкой в одной руке и с книжкой в другой, направляются ко входу. Но даже и эти спокойнейшие люди изумленно смотрят круглыми глазами на то, что блещет перед нами золотыми руинами в жарком синем небе, на то, что так божественно-легко и стройно громоздится на гранитных укреплениях, вросших в темя этого «Алтаря Солнца». Они входят, поднимаются по лестнице, делаются маленькими среди колонн, уцелевших от Пропилеи… Я тоже иду и смотрю… Но я уже все видел!
Я иду, но души древности, создавшей все это, я коснулся еще с парохода. А божественное совершенство Акрополя раскрывает один взгляд на него.
Вот я поднялся по скользким плитам к Пропилеям и храму Победы. Я теряюсь в беспредельном пространстве Эгейского моря и вижу отсюда и маленький порт в Пирее, и бесконечно- далекие силуэты каких-то голубых островов, и Саламин, и Эгину. А когда я оборачиваюсь, меня озаряет сине-лиловый пламень неба, налитого между руинами храмов, между золотисто-обожженным мрамором колоннад и капителей, между желобчатыми столпами такой красоты, мощи и стройности, пред которыми слово бессильно. Я вступаю в громаду раскрытого Парфенона, вижу скользкие мраморные плиты, легкий мак в их расселинах… Что иное, кроме неба и солнца, могло создать все это? Какой воздух, кроме воздуха Архипелага, мог сохранить в такой чистоте этот мрамор? Глыбам гранита и мрамора, кряжам каменистых гор, накаленных зноем, поклонялись древнейшие греческие племена. «Амфион, древнейший из поэтов, извлекал из лиры столь сладкие звуки, что вечный мрамор, в котором заключена высшая чистота земли, сам стал складываться в колоннады, стены и ступени». А Гомер изваял образы богов-людей: ведь Эллада «только устами поэтов и философов» созидала пантеоны и культы. И «уста поэтов» высшей религией признали красоту, высшим загробным блаженством – Элизиум, «от века не знавший тьмы и холода», высшей загробной мукой – лишение света…
«Бог – жизнь, свет и красота», – сказал народ, населивший землю в этом «прелестнейшем из морей». – «Бог – это мое тело», – сказал он, возмужав и забыв, что земля его, как и всюду, щедро насыщается кровью и что смерть, как и всюду, разрушает на его земле плотскую радость. «Я завоевал высшую мудрость», – сказал он – и отлил свои завоеванья в мрамор – воздвиг «Алтарь Возврата», как Александр на границах Индии. И чтобы не слышать о новых завоеваниях, умертвил Сократа. Но дух искал и жаждал. Александр, снедаемый этой жаждой, раздвинул пределы земли, смешал народы и, возвратясь, сказал: «Мир бесконечен, и Бог тысячелик. Я поклонялся всем ликам; но истинный – неведом. Иудея говорит, что лик его – мощь и пламя гнева; Египет, что лик его – Солнце в лике Сфинкса и Ястреба. Но Иудея – это горючее Мертвое море, Египет – могила в пустыне: он тоже свершил свой путь – от поклонения вечно возрождающемуся «сыну Солнца», Гору, до своего Алтаря Возврата – до Великой пирамиды. И храмы Солнца ныне пусты и безмолвны». Тогда Греция снова послала поэтов в философов искать Бога. И они пошли в Сирию и Александрию – и среди смешавшегося человечества зачалось смутное и радостное предчувствие нового рассвета. Впервые случилось, что завоеватель мира не дерзнул покорить мир богу своей нации. И всемирная монархия, смешав человечество, распалась. Человечество пресытилось кровью, землею и смертью – и возжаждало братства, неба, бессмертия. И когда, наконец, снова взошло Солнце, «Радуйся! – сказал миру ясный голос. – Нет более ни рабов, ни царей, ни жрецов, ни богов, ни отечества, ни смерти. Я – египтянин, иудей и эллин, я сын земли и духа. Дух животворит и роднит все сущее: и лилии полевые, и птицы небесные, и Соломона в славе его, и раба Соломона. Сила и жизнь его так велики во мне, что вот я полагаю руку мою на голову умирающего – и слышу, как трепетно исходит из меня любовь и жизнь. На Фаворе, в росистое солнечное утро, мир, в блеске и голубых туманах лежащий подо мною, наполняет мою душу таким восторгом, светом отца моего, что лицо мое повергает на землю братьев моих…»