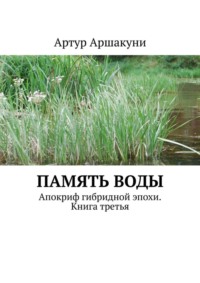
Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга третья
– Деньги, золото… – Незнакомец пересыпал монеты с ладони на ладонь, добродушно посмеиваясь. – О Адонай, держите его, а то он сейчас упадет!
Чжу Дэ покачнулся.
Кровь.
Он поднялся и пересел на камень, подальше от вызывающей необъяснимую дурноту кучки металлических кружочков.
Солнце стояло уже высоко. Блестели рассыпанные по скатерти деньги. Женщины прикрывали глаза ладонью. Незнакомец же продолжал смотреть, не мигая и не заслоняясь от солнца; только глаза его сузились в щелки – жгучие, нестерпимые.
– Ты прав, – сказал он, – в пустыне деньги не нужны. А хлеба ты не ешь.
Наконец, женщины не выдержали и поднялись, занявшись установкой некоего навеса – двух шестов, к которым привязан кусок полотна. Господин и учитель тем временем наполнил свою чашу и выцедил ее.
– Или у вас, иноземцев, иной способ утоления голода, кроме мяса и хлеба? – он беззвучно срыгнул, задумчиво разглядывая чашу, потом перевел взгляд на Чжу Дэ. – Если, конечно, ты не прячешь хлеб за пазухой, не делясь с нами, а? Нет? Тогда эта толстушечка не так уж не права, – хмыкнул он, – насчет пауков. Сыт не будешь, но и не помрешь. Но как насчет того, чтобы обратить эти камни в пищу?
– Есть хлеб и хлеб, – сказал Чжу Дэ.
– Хлеб!
– Хлеб – твари, – негромко сказал Чжу Дэ, —
– Богохульник! – ахнула Милка за спиной господина и учителя.
– Кощун, – сипло подтвердила Береника.
и Хлеб – Бога, человеку же – два, но не один.
– О Адонай, и ты это говоришь мне! Мне! – глаза сына Божьего полыхнули черным. – Нивы тучны и скот обилен на пастбищах Его! Неверные же повержены в прах и обращены в рабов, ибо отвратил Он от них лице Свое!
– Едина печать Его на всех творениях, – сказал Чжу Дэ.
– Едина? – сын Божий выгнул бровь. – Уж не на тебе ли и этом барашке, который скрасил нам существование? Едина? – он расхохотался. – На тебе и мне? И на этих дщерях Сионовых?
Женщины вернулись и сели вместе, поодаль, в тени навеса. Господин и учитель весело оглядел их.
– Сыты ли вы, мои красавицы? – спросил он вкрадчиво. – Довольны ли?
– Да, господин и учитель наш, – Милка потупилась.
– Да, господин и учитель наш, – Береника кокетливо оправила волосы.
– Тогда настала пора развлечь нашего гостя, – сказал он. – Может быть, у него появится вкус к еде – одной из двух!
Он глянул на полную Беренику и негромко хлопнул в ладоши:
– Танцуй!
– Он урод! Кривой урод! – Береника прикрыла лицо краем накидки.
Подруга что-то торопливо зашептала ей. Та выглянула из-за накидки, быстро стрельнула глазами в сторону Чжу Дэ.
– Танцуй! – с нажимом повторил незнакомец.
Береника поднялась и прошлась вокруг скатерти с рассыпанными монетами. В руках у Милки появился бубен и подал голос. Танцующая подняла руки, откликаясь на зов.
Глаза Сына Божьего снова полыхнули черным.
– И ты! – он подскочил к Милке, поднял с места и подтолкнул к танцующей подруге. – Танцуй! Танцуй! О-хи-и-и!
И обратил к Чжу Дэ мгновенную усмешку.
– Едина печать? Каждый ребенок в Иудее знает, что женщина не похожа на мужчину. А ты, нажив такую же, как у меня, бороду, не знаешь того? Едина печать!
Он – раз! – с треском разодрал надвое накидку на Беренике и —
Так знай же, что Господь, Бог мой, отметил женщину
два! – на миловидной подруге ее, Милке, обнажив наготу их.
печатью иной, нежели мужчину. Взгляни же и удостоверься сам!
Он подтолкнул оробевших женщин поближе к Чжу Дэ и сел.
– Танцуй! Танцуй! О-хи-и-и!
Мучнистая, никогда не видевшая солнца кожа женщин сразу стала глянцевой и залоснилась. Глухо, влажно, точно горячий рот, задышал бубен. Господин и учитель снова подошел к танцующим и поднес каждой чашу с вином.
– Танцуй, чтобы покойник возжелал тебя из гроба!
Женщины засмеялись. Милка подняла бубен повыше и крикнула подруге что-то гортанное, напевное, бесстыдное. Полное тело Береники заколыхалось, вторя дыханию бубна. Остро запахло пряным женским потом. Капли пота росли, сливались и ручейками устремлялись в ложбинки. Млела на солнце разгоряченная плоть. Женщина встала напротив Чжу Дэ, пританцовывая и поводя плечами. Бедра и живот ее непристойно двигались. Она высунула горячий язык, облизала масляно заблестевшие губы. Потом подалась вперед. Ладони ее, оглаживая и лаская тело, от первобытного низа живота и бесстыдно раздвинутых бедер, поднялись вверх, приподняли, точно пробуя вес, крупные розные полушария и, сведя их вместе, нацелили на Чжу Дэ.
Бубен хрипел. Милка воздела его высоко над головой, вытягиваясь в лозу. Тело ее, еще сохранившее свежесть, тоже трепетало и колыхалось всеми выпуклостями и складками.
Рада. Где ты, Рада.
– Рада я, ох как рада, – отозвалась Береника еще более сиплым от усталости голосом.
Чжу Дэ вздохнул.
– Нет, не Рада ты, – сказал он, – и не рада, ибо не любовь движет тобою, но страсть к наживе. И потому тягостен тебе труд твой, а не радостен.
Бубен замолчал. Береника прикрылась руками и оглянулась на подругу. Та подошла к смуглому незнакомцу и опустилась перед ним на колени, протягивая ему бубен, словно блюдо с угощением.
– Я танцевала для тебя, господин и учитель мой.
И отшатнулась от молниеносного взмаха руки, разбившего бубен о камни.
Милка вскочила на ноги и в испуге отбежала в сторону. Подруги обнялись и пошли под навес, кутаясь в разодранные накидки. Береника спрятала голову под полой накидки; Милка ткнулась ей в плечо в беззвучном плаче.
– А не заколать ли мне тебя? – весело спросил сын Божий. – Аки жертву за грех? Тем самым совершив угодное Господу, Богу моему, деяние?
– Заколай! Заколай! – заполошно крикнула красивая Милка, впрочем, уже подурневшая от слез.
А они, эти славные мирянки, вернувшись в Иевус, разнесут весть обо мне, добром пастыре.
Нож лег ему в пясть, взлетел и опустился в другую.
Не о том ли в Законе непреходящем:
Ибо так говорит Господь:
рана твоя неисцельна, язва твоя жестока17.
– Заколай!
Чжу Дэ поднялся с камня.
– Грех поднимать оружие против безоружного, – сказал он.
Руки сына Божьего продолжали играть бранным железом, подбрасывая и ловя его.
– Вот – нож, – сказал он. – Удобный, славный. Мне нравится с костяной рукояткой.
У Чжу Дэ снова поплыло перед глазами. Он покачнулся.
Хочешь, я дам его тебе, если, конечно, ты сможешь взять его.
Внезапно нож полетел по высокой дуге, которая заканчивалась у ног Чжу Дэ. Но сверкающий круг солнца и стали, дойдя до верхней точки дуги, остановился, словно перед незримым препятствием, полетел обратно, повторяя свой путь, и вонзился в землю у ног смуглого сына Божьего.
– О Адонай! – ахнула Милка. – О, господин и учитель наш!
Подруга ее только блестела из-под накидки круглым сорочьим глазом.
Чудо! Я видела чудо, своими собственными глазами! – она приложила ладони к глазам и затем открыла их миру.
Господин и учитель молчал – но только мгновение. Дрогнула линия рта.
– А! – сказал он и засмеялся. – Не взял.
Плеснул себе вина, медленно выцедил.
Игра усложнилась, и он тянет время. Потому что не любит проигрывать.
– Знаешь ли ты Храм в Иевусе? – он небрежно кинул пустую чашу вниз, под ноги. – Впрочем, откуда тебе, сыну человеческому, пришедшему ниоткуда… Да. Так я тебе скажу, что высоки стены его, – снова дрогнула в усмешке линия рта. – Может быть, ты, подобно ножу этому, воспаришь со стены, и ангелы будут поддерживать тебя под руки, если, конечно, так будет угодно Господу, Богу моему.
Он смеялся, но уже не добро, а пьяно, глумливо.
– Ты слишком часто всуе упоминаешь имя Господа, Бога твоего, – сказал Чжу Дэ.
– Моего, – повторил сын Божий и повторил с нажимом: – Моего, – он оживился. – А твоего? Или твой Бог – иной?
Зачем?
Последний день.
Сегодня.
– Поведай же о Нем, – он откинулся, лениво оглаживая смоляную бороду и прищурив жгучие глаза.
Чжу Дэ поднял голову. Не эта борода и не эти глаза виделись ему, а иные, совсем, полностью, напрочь иные.
– В начале было Слово, – тихо, сдерживая волнение, сказал он. – И Слово…
– Было убого! – подхватил незнакомец. —
И Слово было… Было «ох!»Он смеялся. Смеялся.
– И «ах!» И «кха! «И «кху!»
Потом закашлялся.
Добрый был ягненок.
Старая сука. Ненавижу.
Потом недовольно,
Довольно! Довольно!
словно прислушиваясь к чему-то в себе,посмотрел вокруг.Чжу Дэ взялся за скалу. Кружилась голова.
…мир. В нем ревела буря, бились волны,светило солнце. Волк рыскал в поисках добычи. И сталне мир, но два: бывший и Словом содеянныйи умозрительный. И в нем волк рыскал в поисках добычи,а могла и добыча рыскать в поисках волка, ибо– Что он говорит? – возмутилась Милка.
мирот Слова больше мира от праха. И в нем звучаликолыбельные песни и погребальные гимны, хвала и хула,воздвигались храмы и рушились царства. И был соблазнотречься от Слова и впасть в первозданный мраки исчезнуть, ибо человек без Слова суть прах и тлен.И стал соблазн отречься от мира, заслонившись от негохрустальной стеной Слова– Эй! – сказал сын Божий. – Я просил поведать о Боге.
и исчезнуть, ибо человек безмира суть безумие и гордыня. И стал человек,беззащитен и сир, на перепутье и плакал, убоясь. И тогдаон обратился к Богу, который Один связывает концыи замыкает начала. И с Ним человек обрел равновесиедуха и плоти, мира и Слова, имя которому – благодатьБожия.Береника же приспустила полу накидки и теперь смотрела на него во все глаза.
Чжу Дэ снова поднял голову. Солнце перевалило на вторую половину пути. От набежавших легких облачков посвежело. Глаза его увлажнились.
Он был бы доволен.
– Хорошая сказка, – сын Божий зевнул и тоже посмотрел на солнце. – Но с плохим концом. Потому что благодать – она не на всех, знаешь ли о том? И еще скажу. Нет в твоей сказке врага рода человеческого, а ведь он пребывает, знаешь ли о том? Пребывает… Стало быть, сказка твоя есть ложь и суесловие. Но довольно.
– Он пребывает в мире, но не в Слове.
– Э? – он оглянулся, словно высматривая того вокруг. – В мире? – и махнул небрежной дланью. – Довольно, я сказал.
Оглянулся на притихших женщин.
Вам пора возвращаться в Иевус.
– О, господин и учитель…
Господин и учитель ваш велит вам возвращаться. Срок подходит к концу и, – он понизил голос, хохотнув, – не гоже сыну Божьему являться в мир из пустыни под руки с девами. А потому… Я пришел сюда один, я и вернусь один.
Женщины засобирались, охая и придерживая сползающие обрывки одежды.
Идите вслед за солнцем. К закату выйдете к Ередану, прямо будет мост Адама, а ниже по течению – мост Абд Улла, а за ним – дорога на Пальм. Ну, дальше разберетесь.
Он бросил быстрый взгляд по сторонам, на Чжу Дэ, вниз, на разбросанные деньги.
Вот, берите, это вам.
Он сыпанул горсть монет Милке, зачерпнул еще.
– Нет, – торопливо сказала Береника. – Я не возьму денег.
Она заслонилась рукой от протянутой горсти с медяками и быстро пошла прочь.
– Я возьму за нее, – сказала Милка, скривив красивые губы в злой усмешке, и подставила руки под монеты.
И заспешила вслед за подругой.
Сын Божий сел, отдуваясь. Швырнул на скатерть остатки монет. Вскочил. Бросился за женщинами. Остановился. Сплюнул. Вернулся. Зашел за камни, долго звенел, облегчаясь. Сел на свое место. И снова вскочил.
– Эй!
Он был один.
Сын человеческий ушел. Далеко белела его накидка. Он шел иным путем, правее солнца, беря круче к северу.
– Киннереф, – пробормотал сын Божий.
Поднял кувшин, потряс его и грохнул о камень. Потом напрягся, ухватился за нож. Сторожко, по-звериному повел носом. Встал. Прошел, ступая негнущимися ногами, по скатерти, по разбросанным медякам, кускам мяса и глиняным черепкам, туда, где сидел Чжу Дэ. Пригнулся, принюхиваясь.
– А! – сказал он. – Ладно. Поглядим.
И с силой вонзил нож по самую рукоятку в землю, еще сохранившую слабый запах свежевыпеченного хлеба.
* * *
Он жил среди собственных нечистот, расстояние до которых равнялось длине цепи, к которой он был прикован.
Он пил собственную мочу, когда о нем словно забыли и он несколько дней не получал своей и без того скудной плошки с протухшей водой из ближайшей ямы. Стражники сторонились его, как зачумленного.
Он не замечал этого.
Худо было рукам. Они, иссушенные, растрескались и кровоточили.
Худо было телу. Кожа иссохла, как на дохлой ящерице, исклеванной птицами, и покрылась струпьями.
Накидка его давно уже держалась на нем вопреки представлениям об одеянии и вполне могла назваться чудом, задумайся он над этим. Потом же, когда его брали, и вязали, и волокли на цепи, она превратилась в обычные лохмотья, какие встретишь на любом нищем, а кого в этом мире удивишь нищим?
Он не замечал этого.
Исхудалыми костлявыми пальцами, напоминающими палочки писца, свернутые в тонкие свитки, он перебирал песок под ногами, набирал в горсть и пересыпал его привычными движениями, и шелестящая еле слышно струйка постепенно темнела, набухая, и продолжала вытекать между пальцев, но уже беззвучно.
Он улыбался.
Речные потоки веселят град Божий,
святое жилище Всевышнего.
Бог посреди его;
Он сидел посреди нечистот и улыбался.
он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра.
Восшумели народы; двинулись царства:
Всевышний дал глас Свой, и растаяла земля18.
Был ли он счастлив?
Да, как счастливы живущие в неведении того, что` есть счастье.
Он узрел Его.
Он простер руку с высоты,
и взял меня, и извлек из вод многих.
И воздал мне Господь по правде моей,
по чистоте рук моих пред очами Его.
С чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его19.
Был ли он несчастлив?
Да, как несчастливы осознающие всю малость отмеренной им меры – упований и надежд.
Я же червь, а не человек,
поношение у людей и презрение в народе20.
Он не узнал Его.
А потому давно был готов встретить муки и смерть.
Смерти не было. Смерть являлась прихотью тех, сокрытых за дворцовыми стенами, наделенных властью, облаченных в виссон, странным условием странного торга, в котором к праведности прикладывалось количество служек в Храме, а покаяние следовало разделить на тук приносимой жертвы.
Торг затягивался. Это не было мукой – это было подготовкой к мукам, смакованием, неторопливым предвкушением их.
Мукой были собственные мысли его.
И сны. Сны, в которых мертвый голубь носился над темными водами и глядело на него в упор из обезображенной глазницы чудом уцелевшее око.
Он с радостью отказался бы от света солнца, он согласился бы отречься от имени своего, он скрежетал бы зубами и выл одичалым псом, но провел остаток жизни без воды, – только чтобы узнать, точно узнать: на кого он излил влагу очищения в тот день?
Кто ответит?
Ученики?
Раз в день ему приносили еду – окаменевшую лепешку, которой погнушался бы и вечно голодный раб. И питье в кособокой плошке, неудаче гончара или шутке его из остатков глины, на три глотка, для забав детворы. Иногда, а в первые дни постоянно, сюда сбегалась дворцовая челядь посмотреть, как безумный отступник будет есть. Осколки выбитых при поимке зубов кровоточили, как пальцы его, и не справлялись с каменной лепешкой.
Не назвал ли он сам себя Предтечей, приуготовляющим пути Тому, кто идет за ним? Ученики – это устрояние, быт, лад. Чинопочитание. Любимцы и ослушники.
Вымачивать ее – было жалко воду. Он ломал лепешку птицам. Они ели, гадили. А воду… Тут и начиналась потеха. Потому что безумец набирал воду в рот, совсем как птица и долго катал ее во рту и ласкал языком, склонив голову и вслушиваясь в себя. Поношение?
То, что было так ненавистно ему и от чего он ушел.
Посмешищем – да, был, особенно первое время, так что страже пришлось отгонять чернь голосом и пинками. Потом это приелось, как приедается черни все, что не связано с едой и продолжением рода, и он остался один на солнцепеке в углу двора, если не считать неотступного стражника.
Ушел? Ведь они были, как он ни противился этому. Он не желал быть ни овцой в стаде, ни пастырем. А они приходили – глазеть, как и эта чернь. Он рвал голос, мыча, вымучивая наболевшее, словно роженица плод свой. Они слушали. Потом уходили. Оставались те, кому идти было некуда и терять нечего. Зато как велик выигрыш! О, искус. Паршивые овцы. Есть, есть на скрижалях небесных Его прописание о том, что на зов откликаются прежде всего лихие и лукавые, а тихие робеют и остаются в стороне.
Хозяевам дворца он тоже не давал покоя, хотя и не вышли во двор ни разу. Правда, он невольно замечал, как, словно невзначай, колеблется занавес в окне. Пустое! Пустое!
Не так ли в котле при варке мяса образуется пена, которую рачительная хозяйка убирает вон? Не так ли при волнении вод на поверхность всплывают грязь и сор? Ученики.
– Ха-Мабтил.
Он не пошевелился. Ветер играет в бороде. И в ушах.
– Ха-Мабтил.
Стражник.
Стражник?
Он отследил глазами тень. Тень поплясала на зловонном полукружье, двинулась дальше и остановилась у его ног.
– Я слышал тебя там, у Ередана, Ха-Мабтил.
Зачем ученики Предтече? Если Он явился, Предтече уходить. Что` тогда ученики? Если нет Его, Предтече уходить все равно. Ученики? Чему он может их научить?
– Ты смелый человек, – торопливый шепот, тень речи, был подобен той, что скользила по песку у его ног. – Я же трус. Ты прикован к цепи. Я же охраняю тебя.
Он, отступник, отринувший все пребывшее учение?
Мне жаль тебя, верь мне, да. Остальные стражники смеются над тобой, но мне жаль тебя.
Тень дрогнула и двинулась дальше по кругу.
Терпению. Терпению и гневу. Терпению, гневу и памяти воды.
И снова закачалась у ног.
– Там, у дворцовых ворот, двое, с виду братья. Оба губастые, рослые, рукастые. Я видел их подле тебя. Не бойся, – заторопился голос, – я не выдам. Я могу им передать от тебя слово.
Тень снова двинулась по кругу.
Тень двинулась по кругу, а он вспомнил. У стражника меткий взгляд. Рослые, рукастые. И губастые вдобавок. Да. Старший – огонь. Чуть что – за нож. Что кому привычнее. Слово. Плуг. Камень. Деньги. Вот – нож. Шеммах. Младший – вовсе молчун. Даже имени не сказал. Что же у него за прошлое, если даже имя его тяготит?
Ученики.
– Я жду, Ха-Мабтил, – мерно, в сторону, в такт своим шагам проронил стражник.
Пусть спросят.
Нет.
Нет.
Спасенному – спасену быть.
– Пусть уходят, – сказал он трудно, ворочая языком по кровоточащим осколкам зубов. – И живут промыслом родителя своего.
– Я передам, – шепнул стражник и тут же зашипел: – Идут! Сюда идут!
Это была она. Царица. С толпой приближенных, мамок, нянек, рабов и рабынь, с целым выводком наглых и уверенных в своей наглости кошек.
Это была царица, но не она. Ибо не узнать было в этой раздавшейся человеческой самке, прячущей за птичьими перьями зоб, а за камнями, правлеными в металл, – увядшие млечники свои, ту, о которой шушукались в Риме, ту, которая возревновала к другой, жившей задолго до нее, царице иного царства, слывшей непревзойденной красавицей, ту, прихоти которой легко преступали законы, и тем покоряли – до тех пор, пока это были законы естества, а не неба.
Волчица.
Сытая волчица.
Мановением руки она остановила слуг и подошла одна – к кругу, образованному человеческими испражнениями, не замечая их, как и стражника, выпучившего от усердия глаза.
– Какая встреча! – сказала Ирида. – Как будто ничего не изменилось.
В руке у нее был серебряный кувшин тонкой индийской работы.
– Мне решать твою судьбу, – сказала она и покачала сыто булькнувший кувшин, – как участь этой воды.
Она слегка наклонила кувшин. Драгоценная влага жаркой струйкой пролилась, дробясь и прыгая каплями в пыли.
– Ну?
Она сильнее наклонила кувшин.
– Слово – вода. Слово – жизнь.
Пела вода. Пела, смеясь, свое, вечное – о мимолетности всего сущего.
– Ну?!
Он улыбался.
Последние капли впитал алчный песок. И тогда он издал непотребный звук. Чтобы не осквернить уста.
Лицо Ириды пошло пятнами. Она схватилась за грудь.
– Клянусь лоном своим, ты умрешь! – сказала она. – Ты умрешь, но я сделаю так, что твоя смерть отныне станет поучением всем безумцам и маловерным.
И увела с собою свиту.
Вышла – царица.
Говорила с ним – человечица.
Ушла – дьяволица.
Он долго сидел, раскачиваясь, и придерживая цепь, чтоб не мешала жлезословием своим иной боли, зреющей внутри. Души не было. Была бездна. И боль носилась над бездною мертвым голубем. И когда боль прорвалась наружу, он простонал:
– Ты ли Тот, Кого мы ждали?
Снова сидел, окаменев.
Потом лицо его просветлело. Он поднял голову. Он встал. Он был готов. Он улыбался. Он запел – неумело, неуклюже, но старательно, возмещая неумение громкостью. Разве не глас Господа прогремел над водами, над водами многими21? Итак, он громко запел.
Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
Подкрепляем меня на стези правды ради имени Своего.
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною;
Твой жезл и Твой посох – они успокоивают меня.
Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою;
чаша моя преисполнена22.
* * *
Иногда бывает, что мелкое и невзрачное в жизни преисполнено житейского шума и показного блеска. Переживаешь, суетишься, чтобы удостоиться громокипящего, а на поверку оно сравнимо разве что с овечьим горохом. Бывает и наоборот, когда важное и значительное вступает в жизнь человеческую незаметно и тихо. Умудрись разглядеть в пестроте дня сегодняшнего. Оглянешься спустя много лет на свое прошлое и вздрогнешь – вот же где оно было, оно, то самое, твое, твое истинное!
Не умение ли различать первое от второго является наиболее важным для человеков?
А было так.
Чжу Дэ обошел Киннерефское озеро с востока, пройдя землями Десятиградия и Трахонита. Скалы и камни. Изрезанная линия горизонта не была похожа ни на что им виденное до сих пор. Суровая, дикая природа обладала странным очарованием. Места здесь были глухие, разбойные. Несколько раз он слышал в ночи посвист, и тут же за ним – ответный, за спиной. Раз из камней к нему вышли неприметные личности, оглядели с ног до головы и спросили, кто таков. Чжу Дэ ответил, улыбаясь, что он – богач и может поделиться с ними. Его окружили, стали требовать показать свое богатство. Чжу Дэ сказал, что богатство его нельзя увидеть, ибо оно – у него в голове. Главарь приказал отпустить блаженного и на прощанье оделил парой медяков и куском хлеба.
В Десятиградии было повеселее. Ровные поля, ухоженные сады. Разные племена и народы населяли его. Иногда встречались целые селения эллинов, сирийцев, иудеев и снова эллинов и сирийцев. Определенной цели у Чжу Дэ не было. Он просто шел, смотрел, отдыхал. Его не останавливали. Иногда давали хлеб. Он, поблагодарив, брал. Встретилась шумная свадебная процессия. Его угостили вином. Он поклонился людям.
Потом слева бирюзовой полосой сверкнуло озеро. Потянулись иудейские поселения. Чжу Дэ шел, размышляя, почему народ, получивший Откровение о Боге, совершенное, незамутненное, очищенное от всяких ненужных, земных и потому пребывающих подробностей, в котором нет образа, нет формы, а есть только суть Его, – почему народ этот столь ревностно скрывает Его и делит все человечество на своих, приобщенных к Нему, и чужих, варваров, погрязших в идолопоклонстве? Он вспомнил разговоры с Шемаимом. Да, для рассеянного по свету народа вера в своего Бога – единственное, что спасло, помогло устоять, сохраниться, не сгинуть в пыли веков. Да, это так. Тем более, что были рабство, плен, исход. И снова рабство, плен, исход. И все же… Одним этим не объяснить закрытость народа. Как можно поймать и удержать в горсти солнечный луч? Отгородившись ото всех незримой стеной, не рискует ли народ – целый народ! – оказаться в положении человека, запертого в тесной и душной комнате, без притока свежего воздуха? Откровение? Да. А затем – толкование Откровения? А затем – толкование толкования? А затем – пояснение к толкованиям? А затем – толкование к пояснениям толкований? Ах, Шемаим, Шемаим! Славно можно было бы сейчас поспорить. Хотя, что тут спорить? В этом пространстве, окруженном незримой стеной отчуждения и неприятия любой инаковости, в этом безвоздушном пространстве чахнут ростки нового. Мысль продолжает ходить по кругу. Не отсюда ли напряжение в людях? Не отсюда ли ожидание конца и Страшного суда? Не отсюда ли душевные муки? Шемаим! Бог – един и неделим. Как можно спрятать Его среди одного народа?

