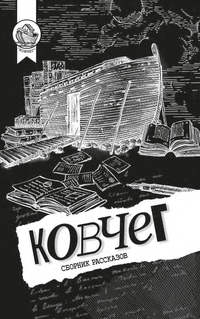
Ковчег
От остановки автобуса шла, поскрипывала по свежему снегу и волновалась радостно, трепетно, как в молодости. У входа заметила, что афиша заклеена по диагонали полосой с надписью: «Все билеты проданы!» – и почувствовала себя человеком другой, более высокой категории, чем те, что просто проходили мимо по своим будничным делам и не имели повода предвкушать что-то праздничное. У нее-то в сумочке лежал билет, в отдельном кармашке, застегнутом на молнию, – по дороге даже пару раз проверила, на месте ли. Потом, сдав пальто в гардероб, стоя в фойе, уже по-новогоднему украшенном еловыми ветками и изящными игрушками, оглядела себя в зеркало. Ничего, еще повоюем. В глазах огонек горит, не угасло внутри – вот что главное. Прошла в зал, еще немного волнуясь, оглядывая других театралов. Но с первыми нотами уже и думать о себе забыла. Унеслась, околдованная, в чайковскую сказку. В антракте даже не стала выходить из зала. Поднялась только с красного мягкого сиденья, чтобы спину расправить и немного ноги размять, прошла по проходу, постояла над оркестровой ямой, разглядывая инструменты и опущенный занавес. Второй акт слушала, уже замечая нюансы, наслаждаясь без суеты, как человек, утоливший первый голод и теперь смакующий каждый новый кусочек. Однажды только кольнуло сожаление: скоро сказка закончится. А когда закончилась, аплодировала долго, до боли в ладонях.
Обратно поехала тоже на автобусе. Улыбалась блаженной улыбкой, как городская сумасшедшая. Да и наплевать, кто там что может подумать. Окрыленной Людмила Михайловна себя чувствовала и хотела это чувство подольше в себе пронести. На свой третий этаж вспорхнула по ступенькам, словно девочка.
Константин Палыч помог снять пальто, поинтересовался: – Как Петр Ильич? По-прежнему?
– Прекрасно, прекрасно! – пропела музыкальной фразой в ответ Людмила Михайловна.
– Тогда, может, чайковского? – отозвался муж явно заготовленной заранее шуткой, пошел на кухню греметь чайником. А Людмила Михайловна скинула сапоги и теплый платок и сделала по коридору пару легких балетных шажков. Ах, как это было прекрасно! Ногу прямо, носочек потянуть вперед, шаг, еще шаг – и она оттолкнулась от пола и взлетела, проплыла на вдохе метра два и снова нежно коснулась тапочками паркета. Сморгнула, оглянулась. Одной рукой схватилась за стену, другой – за сердце. Потом руку от сердца отняла, потрогала лоб. Не горячий, даже наоборот, с мороза совсем еще холодный.
– Ну, где ты там? – позвал из кухни муж.
– Пойду переоденусь, – ответила Людмила Михайловна громким, по возможности самым обычным голосом. Пошла в комнату, тщательно отпечатывая каждый шаг на паркете. И только когда прикрыла за собой дверь, попробовала еще раз. Подалась немного вперед, потянулась вверх и осторожно оттолкнулась правой ногой от пола. И поплыла по воздуху мимо книжного стеллажа, мимо привычно застывших в раме на стене шишкинских сосен, с восторженным удивлением чувствуя, как тело наполняется неземной легкостью. Мягко опустилась на диван, выдохнула и закрыла глаза.
«Что это? Боже мой, что это? – подумала Людмила Михайловна. – Так не бывает. Но как это прекрасно!»
Вздохнула, счастливая, с тихой улыбкой на губах. Потом спохватилась, стала расстегивать блузку. Уже в халате, стараясь внятно запечатлеть на полу каждый свой шаг и даже нарочито пришаркивая, прошла в кухню. Опустилась на стул, стараясь почувствовать, как переместился в теле центр тяжести. Или центр легкости. Ладонями обхватила чашку, словно для того, чтобы удержаться. Бонька подбежал, стал тыкаться мокрым носом в ноги.
– Ну, рассказывай, как там оно, как светская жизнь, – усаживаясь основательно, скрипя стулом, спросил Константин Палыч. И Людмила Михайловна начала рассказывать. Сначала подчеркнуто буднично: про градусы ниже нуля и ветрено ли было, и сколько прождала на остановке, и на каком автобусе поехала. Потом, увлекаясь, стала говорить о том, как красиво по-новогоднему украшены были фойе, коридоры и лестницы, во что были одеты другие театралы. Вдруг вспомнила:
– Программка! У меня же программка есть! Дай я тебе покажу!
Сделала движение встать и почувствовала, как легко оторвалась от стула, зависла в паре сантиметров над сиденьем, застыла с открытым ртом, но Константин Палыч только махнул рукой:
– Сиди, сиди. Где она, в сумке у тебя? А сумка где?
И стал выбираться из-за стола, снова скрипя стулом и тяжело опираясь на столешницу.
– В прихожей, кажется, – ответила Людмила Михайловна, тихонько возвращая себя на стул.
Константин Палыч принес сумку, она достала программку, протянула ему глянцевые странички. Он поверх очков с вежливым вниманием поразглядывал, прочел вслух фамилии дирижера и художника-постановщика. А Людмила Михайловна пустилась рассказывать дальше: как зазвучала увертюра, как стал подниматься занавес, какие были костюмы, как смешно болтались хвосты у балетных мышей, какая елка была на сцене, как аплодировали, как выходили на поклон. И музыка, главное – музыка! Ведь она еще в детстве ее слушала и знала ноты, а потом – помнишь? – купили для детей виниловую пластинку. Хорошая была постановка. Кто же там текст читал? Где-то ведь она лежит еще, эта пластинка, не могли ведь выкинуть!
– На антресоли, наверное, убрали, – кивнул Константин Палыч и с хрустом сломал в кулаке сушку. – Чаю налить еще?
– Ну что ты опять со своим чаем? – досадливо вздохнула Людмила Михайловна. Она как будто только сейчас заметила, что уже вернулась из театрального зала и что сидит у себя на кухне. Все вдруг как-то потускнело, стянулось, стало маленьким. Людмила Михайловна почувствовала, что устала, заломило поясницу, ноги налились тяжестью.
– Ну что, спать? – снимая очки и потирая переносицу, подвел итог Константин Палыч.
– Да, наверное, – кивнула она. Досада уже прошла, и Людмила Михайловна радовалась привычным вещам вокруг, мягкому свету старой лампы, тихому тиканью часов.
– А времени-то уже, оказывается! – воскликнула она, взглянув на циферблат.
– А ты как думала, – проворчал муж, убирая со стола чашки.
На следующее утро никак не могла проснуться. Так распереживалась вчера, так разнервничалась, да и из привычного режима выбилась. Встала с кровати только когда Константин Палыч уже вывел Боньку и вернулся. И сразу закрутились какие-то дела. Сначала позвонила на бывшую работу: поблагодарить за подаренный билет, за чудесные впечатления. Телефон после этого звонка точно обрадовался, что о нем вспомнили, точно получил право голоса – стал трезвонить не переставая. Дочка позвонила. Потом пара знакомых, которые хотели поздравить с юбилеем, да забыли, пропустили дату и теперь хотели повиниться и наверстать. Потом – вообще ерунда какая-то – агент из телефонной компании долго продержал Людмилу Михайловну у аппарата, рассказывал подробно о тарифах и предлагал какие-то мегабайты.
Константин Палыч окончания переговоров не дождался, только раздраженно махнул рукой, взял сумку, пошел в магазин. Людмила Михайловна, наговорившись, принялась за готовку. После обеда смотрели сериал, который так нравился Константину Палычу. А там уже и стемнело.
Надо было вывести еще раз пса, и Людмила Михайловна вызвалась пойти. Надела извивающемуся от радости песику шлейку, пошагали вниз по лестнице. Гуляли обычно за домом, на пустырьке. Погода была отличная: лениво сыпал редкий снежок, легкий морозец пощипывал щеки и кончик носа, так что глаза сразу по-стариковски заслезились. Песик радостно скакал по снегу, тыкался носом в пушистый белый покров, мотал лохматой головой, разбрызгивая вокруг снежные брызги. Глядя на его незамысловатое счастье, Людмила Михайловна невольно вспомнила и свой вчерашний радостный подъем, окрыленность. Недоверчиво улыбнулась – привидится же! Попыталась нащупать внутри себя это вчерашнее состояние, украдкой огляделась и решилась. Сделала шаг, другой, ощутила всем телом, что да, вот оно! Оторвалась от земли и пролетела несколько шагов вперед над дорожкой. Бонька скакал рядом, не отставал.
Людмила Михайловна оглянулась, чтобы оценить преодоленное по воздуху расстояние. Заснеженную дорожку освещали только окна окрестных домов, но небо над городом здесь, кажется, никогда и не гасло, впитывая свет множества фонарей, реклам, вывесок. В этом полумраке на дорожке отчетливо были видны следы на снегу, потом они прерывались, и дальше оставались только зигзаги суетливой собачьей беготни. А человеческих следов не было, наверное, метров пять или шесть. Увидев позади себя это белое нетронутое пространство, Людмила Михайловна вдруг испугалась, поежилась сиротливо в своей старой куртке, оставленной только для гуляния с собакой. Показалось, как будто ее саму стерли из жизни, даже следа не осталось.
– Бонька, домой! – крикнула Людмила Михайловна и с неудовольствием услышала в собственном голосе нервную, высокую ноту. Развернулась и, специально приволакивая ноги, чтобы загрести как можно больше снега, пошла к дому.
Тоскливое настроение не отпускало весь вечер. Но сначала можно было еще не думать обо всем этом, можно было включить телевизор, заняться ужином. Соседке, в конце концов, позвонить – сколько уже можно откладывать. Но когда легла и выключила свет, тут уж тревожные мысли накатили в полном ассортименте.
Не собралась ли душа отлететь?
А что, если это старческий маразм? Галлюцинации начались?
Надо бы к врачу. Давление проверить. Может, что-то с вестибулярным аппаратом?
Косте рассказать? Да нет, не надо. Сама как-нибудь.
Невозможно.
Привиделось.
Еще часа два Людмила Михайловна ворочалась с боку на бок, пытаясь уговорить себя, что привиделось. Но если бы только привиделось, еще ведь причувствовалось. И как убедить себя, что не было этого чувства? Сладко-знакомого, словно из давнего сна, пьянящего, манящего чувства легкости.
Потом она наконец заснула и во сне снова ходила на работу, словно и сама, и весь коллектив забыли о том, что она уже десять лет как на пенсии. «Наверное, сложное задание, потому и вызвали меня, с моим опытом», – решила во сне Людмила Михайловна. А задача, и правда, была непростой: составляли проект очередной московской высотки, очень похожей на одну из семи прославленных. И вроде бы работали над проектом, но в то же время здание уже как будто и стояло где-то в городе, не совсем по-настоящему, а словно наложенный на реальность эскиз в натуральную величину. И Людмила Михайловна облетала его с разных сторон, то взмывала ввысь, к тонкому шпилю, то нарезала круги вокруг полупрозрачных стен, проверяя расположение коммуникаций и лифтовых шахт. И с гордостью думала, что вот ведь как хорошо пригодилась ее новая летная способность, как это удачно помогает теперь в работе. Проснулась бодрая, в приподнятом настроении. Полежала немного, наслаждаясь этим чувством, но потом вдруг опомнилась, схватилась руками за простыни. Нет, все-таки она не парила в воздухе, все-таки лежала, отпечатывая на постели свой вполне нормальный для такого роста и возраста вес.
«И что мне теперь с этим делать? – спросила себя Людмила Михайловна. – В цирке выступать? С аттракционом “Уникальная летающая старушка”?»
От этой мысли ей стало весело. Вообще, в утреннем свете все вчерашние ночные мысли, как это и бывает, развеялись, показались незначительными. Да и чувствовала Людмила Михайловна себя на редкость хорошо. Выпрыгнула из постели и, пока нашаривала ногами тапочки, позволила себе зависнуть в паре сантиметров над полом и даже очертить носком из такого положения завитушку на ковре. Пока гуляла с Бонькой, тоже немного шалила: делала шаг и пролетала немного вперед над белым нетронутым снегом, присыпавшим за ночь все ее вчерашние следы. Дошла до конца дорожки, оглянулась: позади словно кто-то играл в гигантские шаги, так далеко один человеческий след отстоял от другого. Она развернулась и, так же легко перелетая над землей, отпечатала в промежутках дополнительный след. Снова обернулась и рассмеялась: на заснеженной дорожке теперь видны были следы человека, одна нога у которого была вывернута пяткой вперед.
Семьдесят лет – это все-таки такой возраст, когда человек с трудом впускает в свою жизнь что-то новое. Куда оно теперь, к чему? Хватает и старого, пережитого, привычного, подлежащего последнему осмыслению. Но Людмила Михайловна на удивление просто впустила в свою жизнь неожиданно открывшуюся в ней способность к полетам. Когда оставалась дома одна, то передвигалась по квартире уже исключительно перелетами: от холодильника к столу, от стиральной машины с охапкой мокрого белья в ванную. С неудовольствием обнаружила, сколько пыли скопилось на люстре и на карнизах. С облегчением ощутила, как легко стало доставать книгу с верхней полки стеллажа и поливать цветок, стоящий на шкафу.
Главной трудностью было теперь не забыться, не воспарить в присутствии мужа или других каких-нибудь людей. Один раз чуть не погорела: сидя в кресле с томиком стихов, так зачиталась, так преисполнилась того самого чувства возвышающей, окрыляющей легкости, что, оторвав глаза от страницы, обнаружила себя висящей над креслом уже, наверное, в полуметре. Осторожно вернула себя назад, вниз, не спуская глаз с Константина Палыча. Он, на счастье, кажется, как раз задремал под монотонную телевизионную бубнежку.
Летала Людмила Михайловна и во сне. Но не так буднично, как днем, не так приземленно, а высоко. Чаще всего виделось ей, что она гуляет по Воробьевым горам, подходит к балюстраде, где стоят люди, любуются видом на город. А она отталкивалась от земли, взмывала вверх и парила, раскинув руки, описывала круги над Москвой: все шире и все дальше. Узнавала сверху знакомые улицы, проспекты, здания, площади, неслась над лентой реки, ощущая свежие влажные порывы ветра.
Иногда в первые дни еще укоряла себя. То ей чудилась какая-то безответственность в этих полетах, какая-то легкомысленность, то становилось неудобно перед мужем, от которого за всю долгую совместную жизнь по большому счету никогда ничего не скрывала. Но потом Людмила Михайловна убедила себя, что летает она безопасно: над полом невысоко, да и недалеко. А у Константина Палыча все-таки давление и сердце, так что его беспокоить совершенно не следует.
Да и когда разговоры разговаривать? Новый год на носу! Дочка приедет с мужем, соседка придет. А это ведь все хлопоты. Квартиру убрать, купить продукты, подарки всем приготовить, елку нарядить, на стол накрыть. Не до разговоров. Вот потом, может быть, когда схлынут праздничные дни и все снова войдет в привычную колею, вот тогда и поговорит, пообещала себе Людмила Михайловна.
За день до праздника уже начала готовить угощение. Константин Палыч как раз из магазина вернулся.
– Костя, а свекла где? – спросила Людмила Михайловна, разбирая сумки.
– Завтра куплю, – отмахнулся он, тяжело опускаясь на стул.
– Какое завтра? Мне сегодня она нужна! Она же так долго варится! – засуетилась Людмила Михайловна. – Мы что же, по-твоему, без селедки под шубой будем за новогодним столом?
Константин Палыч только закряхтел, завздыхал недовольно.
– Ладно уж, сиди, – она даже махнула на него рукой, – сама слетаю быстренько.
И осеклась, испугалась того, что сказала. Но Константин Палыч только кивнул устало:
– Ну слетай, слетай.
Она и полетела. Ноги в сапоги, шапку нахлобучила, руки в рукава сунула – что там, до ближайшего магазина добежать. Отогнала Боньку от дверей и по лестнице, со своего третьего этажа, действительно не сошла, а слетела, мягко проскользила над ступеньками, плавно огибая перила на поворотах, напевая под нос что-то стремительное и даже бравурное. Дверь распахнула и нос к носу столкнулась с соседкой. С той самой, что должна завтра в гости прийти. Да не важно, с какой. Главное, что столкнулась, вися в воздухе. Несуразно, невозможно, наплевав на все законы гравитации. В ту же секунду все осознала, спохватилась, сдернула себя вниз, к земле. А там как раз порожек металлический, скользкий. Одна нога подвернулась, стрельнула острой болью вверх, к колену, да так, что в глазах заплясали огоньки.
– Ой! – вскрикнула Людмила Михайловна. Другая нога поехала по плиткам пола, так что она только руками взмахнула и начала падать. Хорошо, соседка подхватила.
– Что же это ты, Люсенька! – запричитала она. – Я аж испугалась, как вылетела на меня. Смотрю, а это ты. Держу, держу, поднимайся.
Опираясь на соседкино плечо, ощущая весь свой настоящий вес, Людмила Михайловна попыталась подняться и встать прямо. Но одна нога снова отозвалась резкой болью. Только бы не перелом.
Кое-как допрыгала, доковыляла с соседкиной помощью до квартиры. А там уже и Константин Палыч помог. Довели вдвоем до кресла, усадили, раздели. Сапог с пострадавшей ноги насилу стянули: лодыжка уже распухла.
– «Скорую», «скорую» вызывай, Константин Палыч! – повторяла без конца соседка, словно заговаривая чужую боль.
И завертелось. Сначала врач приезжал. Не перелом, слава богу, только растяжение. Но на ногу-то все равно не опереться. А как же теперь готовить, как же праздник? Это ведь завтра уже, и гости будут. Как же теперь с ними? Соседка дважды еще приходила, узнать, как да что. Дочка звонила, говорили долго, она утешала, обещала, что завтра с мужем пораньше приедут и сами все приготовят к столу.
Часа через три только, наверное, все улеглось: отзвенел телефон, отхлопали двери, откатили немного суетливые переживания. Константин Палыч опустился со вздохом на кресло, щелкнул телевизионным пультом, Бонька запрыгнул на диван, обнюхал перебинтованную ногу, сочувственно улегся рядом.
– Вот и слетала в магазин, – в который уже раз сокрушенно покачала головой Людмила Михайловна.
– А нечего потому что в таком возрасте летать, – проворчал, не отрывая глаз от экрана, Константин Палыч. – Я как заметил, сразу тебе сказать хотел. Да толку-то. Ты всегда такая была: что вобьешь себе в голову, так уж все.
– Ты о чем это? – испуганно затаив дыхание, уточнила Людмила Михайловна.
– О чем? Да про полеты эти твои, – уже немного раздражаясь, заговорил муж. – Ты что же думала, я не замечаю? Все-таки в одной квартире живем. Только отвернусь, глядь – а она опять полетела. Низенько так, по-над полом. И думает, я не вижу. Думает, совсем ослеп к старости.
– Костя… – пролепетала Людмила Михайловна. – Да как же ты…
– А что я? – Теперь он развернулся к ней и заговорил с обидой: – Что я? Я – старый пень, корни пустил в это кресло. А ты у нас – возвышенная натура, окрыленная. Как выходной или просто после работы – так театры, концерты, книжки со стихами, пластинки. И все витала где-то. А что я? Мне нравилось. Не то что у других: пеленки, покупки, дача, огород. Я не говорю ничего, ты мне такой как раз и нравилась. Но сейчас-то, Люся! В семьдесят-то лет. Нам уже с тобой пора, как говорится, к земле привыкать, а ты тут и вовсе воспарила. Да не как-то там, а прямо вот по-настоящему. Когда ты с Бонькой гуляешь, я в окно смотрю – как ты там на пустырьке нашем ходишь: шаг сделаешь, оттолкнешься и летишь. А Бонька вокруг скачет. А я стою, смотрю и думаю: как же так-то? А как же мне теперь быть?
– Костя, – нашла наконец какие-то слова Людмила Михайловна, – Костя, ты прости меня, что я тебе не говорила. Ну как бы я сказала? Ведь это же что-то совершенно – согласись! – ну просто совершенно невозможное!
– Возможное-невозможное, – проворчал он, – но сказать-то могла. Столько лет вместе прожили. Смотрю – летает. И не говорит ни слова. А мне-то как теперь быть?
– Ну, Костя… – снова сказала Людмила Михайловна, но он только отвернулся, брови сдвинул сердито и уставился на экран телевизора, как будто там было что-то важнее, как будто бы там ему доверяли любые тайны.
Людмила Михайловна не знала, что сказать. Хотелось подняться с дивана, подойти к мужу, обнять, попросить еще раз прощения за то, что утаила, не поделилась с ним таким чудесным и небывалым. Лучше даже просто глазами прощения попросить, без лишних слов. Она откинула одеяло, спустила ноги на пол, попыталась подняться. Нога отозвалась сердитой болью. Тогда Людмила Михайловна выдохнула и на волне светлого какого-то и теплого чувства вспорхнула с дивана и подлетела к мужу. Обняла его сзади за плечи:
– Ну, Костя…
– Эх, Люся, – вздохнул он, и она услышала по его голосу, что уже прощена, и что теперь она не одна со своим странным непрошеным даром, и теперь можно будет говорить об этом и перестать жить с вечной оглядкой.
– Дочке-то скажем?

Сергей Кубрин
Начальник
Полковнику Молянову С. А.
Полицейская собака Ла-пуля снова родила щенят: дворовых и беспородных, самых обычных, с прямым черным окрасом и блеклым цветом глаз. Таких – пруд пруди в каждом подвале, в каждой подворотне, у каждого мусорного бака, на любой контрольной точке или зоне обхода дежурного патруля. Не знающие людской заботы, скулящие и звенящие, исход судьбы которых невелик: найти хозяйские руки или прыгнуть в тревожный вещмешок, оказавшись где-нибудь за городом.
Может, потому весь личный состав с самого дня рождения стал бороться за право выбора – мне вот этого, а мне вон того. Смотри, какая морда, добавляя понятное: «Мужи-иик». Щенки рано отстали от матери, носились по дворовой территории отдела, цеплялись за штанины пепеэсников. Те, уставшие после ночного дежурства, сперва шугали назойливых щенят, но, одумавшись, скоро брали на руки молодое собачье пополнение.
Честно говоря, сами щенки больше всего любили этих сержантиков, носящих почетную должность сотрудников патрульно-постовой службы. Переулки и городские тупики, улицы и закоулки, важное прописное условие: охраняй правопорядок, следи за пропускным режимом.
Щенки несли дежурство у въездных ворот. И если появлялся на той стороне жизни случайный прохожий или бдительный гражданин, давились ребяческим рыком, исполняя отеческий долг.
– Отставить, – давал команду пепеэсник, – ваши документы, пожалуйста.
И, выстроившись в ряд, опустив на потертый асфальт завитки дымчатых хвостов, провожали взглядом, как по команде «смирно», заявителей и потерпевших, жуликов и бандитов, патрульные «бобики», служебные ГНР-ки.
Оставалось лишь крикнуть что-то вроде «вольно», и щенята обязательно бы понеслись туда-сюда, рассредоточились по периметру, но отчего-то стеснялись они своих врожденных полицейских способностей, скрывали понимание уставного режима и дисциплинарной важности.
Сама Ла-пуля пряталась в будке и лишь изредка выходила, радуясь первым отголоскам предстоящей весны, блаженно похрипывая, когда кто-то теребил ее потрепанное старое пузо.
Начальник отдела, старый полковник, почти уже отучил мать-героиню подавать голос. Если та бежала к нему, заметив еще у самого входа статную офицерскую фигуру, и готова была уже разразиться лаем от радости встречи с хозяином, полковник поднимал ладонь, пронося ее с силой по воздуху, намекая как бы: станешь гавкать – прилетит и тебе.
Собака послушно утихала и только путалась под ногами, не давая сделать ни шагу.
Ла-пуле, само собой, хотелось налаяться от души, захлебнувшись собственной звериной силой, нарычать на непослушных щенят, заскулить от ночной апрельской тоски или вовсе проводить гавканьем местного жульбана. В общем-то долгое время она так и жила, если бы в одно обыкновенное утро в отдел полиции не обратилась женщина с определенно необыкновенным заявлением.
«Прошу привлечь, – писала она аккуратным, но ершистым от негодования почерком, – к уголовной ответственности собаку, проживающую на территории отдела полиции, поскольку та издает лай в ночное время суток, тем самым мешает осуществлению сна и, соответственно, нарушает право человека на отдых».
Дамочка, скорее всего, обладала некоторой юридической грамотностью и повышенным уровнем правосознания, воспринятого из массовых телепередач в духе «Часа суда», поскольку на возражение дежурного, что подобное заявление принимать не станет, пригрозила пальцем и пообещала – немедленно – идти в прокуратуру.
– Ну вы поймите, – настаивал дежурный, – ну как же мы привлечем к ответственности собаку?
– А вы спите по ночам? – кричала женщина. – А я вот не сплю! Убирайте эту сучку куда хотите! Так больше невозможно!
Скорее всего, и дежурный, и сотрудники, проходившие мимо, но вынужденные остановиться ради очередного нашествия жертвы весеннего помутнения, подумали: сучка здесь одна, и, так уж вышло, на данный момент это не всеми любимая Ла-пуля.
– Я вам говорю, женщина-аа, – с какой-то неестественной мольбой, что ли, выдавил дежурный.
– Я вам не женщина! – не унималась заявительница. – Женщина у вас дома, и то не факт, – усмехнулась она, оглянувшись в надежде найти представителей жалобщиков, способных разделить ее тонкое чувство юмора. Но никого из гражданских не было рядом, кроме дохлого старичка, верно ожидавшего очереди и не способного, казалось, ни смеяться, ни плакать, ни – тем более – уподобиться язвительному трепу. – Так вот, я для вас – гражданка в первую очередь. А следовательно, имею право! Понимаете, – ударила она кулаком о часть примыкающего к защитному стеклу выступа, – я имею полное пра…

