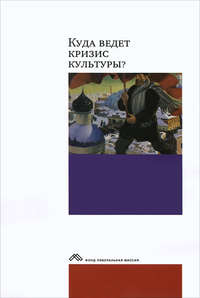
Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов
Игорь Клямкин:
То есть если голосует за Путина, значит – не европеец, а если против, то европеец?
Михаил Афанасьев:
Я как раз не думаю, что это так. А как я думаю, изложено в докладе, где анализируется мотивация электоральных предпочтений.
Игорь Клямкин:
Вопросов больше нет. Давайте перейдем к обсуждению. Первым просил слова Игорь Григорьевич Яковенко.
Игорь Яковенко (профессор Российского государственного гуманитарного университета):
«Если бы в России была жива та культурная традиция, которая рисуется в докладе Афанасьева, то нынешний патерналистский выбор большинства населения был бы невозможен»
Доклад Михаила Николаевича вызвал у меня сложные чувства. Я согласен со многими тезисами. И, прежде всего, с центральным: партия модернизации получает шанс на стратегическую победу только тогда, когда докажет соответствие своих целей национальной идентичности. Я могу сказать ровно то же самое. Но дальше включается научная добросовестность и интеллектуальная честность. И в конце концов соображения прагматического порядка. Они сводятся к тому, что если мы будем фантазировать по поводу идентичности и придумывать ее, то эта сконструированная штуковина будет уязвима для критики, и вряд ли мы на ней слишком далеко уедем.
Остановлюсь на некоторых положениях доклада, которые кажутся мне сомнительными.
На самой первой странице цитируется Милюков: русская культура есть самобытный извод европейского корня, исторически запаздывающий и в сравнении с синхронной ему европейской культурой относительно примитивный. Но если это самобытный извод того же самого корня, то он может «запаздывать» либо потому, что возник слишком поздно, либо потому что он, будучи похожим на корень европейский, все же качественно другой. А дальше я обращаю ваше внимание на фундаментальный факт мировой истории, который состоит в том, что мир протестантский и католический выстоял против исторического натиска ислама, длившегося семь веков, а потом породил из себя историческую динамику. А мир православия в лице Византии, в котором Михаил Николаевич находит истоки русской европейскости, рухнул, просто исчез, будучи поглощенным этим самым исламом.
Суверенное православное государство сохранилось в медвежьем углу, в России, которая до того была под Ордою. В XVIII веке оно включилось в догоняющую модернизацию, которую до сих пор так и не смогло завершить. Почему? Потому что успехи на путях модернизации в православных странах, как мы сегодня видим, приходят только тогда, когда секуляризация в них заходит достаточно далеко. Если же этого нет, то сторонники модернизации (такие, например, как тот же Милюков) оказываются в сложном положении. Главная психологическая травма русских интеллектуалов рубежа ХIХ–ХХ веков в том-то и состояла, что, с одной стороны, они видели себя православными, а с другой – не могли не понимать реального положения вещей. Они не могли не понимать, что Византия сохранила историческое наследие античности, но породить исторически перспективную, динамичную цивилизацию не смогла. Однако Милюков не был бы самим собой, если бы он смог это произнести и признать.
Прошло сто лет. Достаточно ли этого, чтобы отдать себе ясный отчет в исторической бесперспективности нашего «самобытного извода европейского корня», нашей культурной преемственности с византийской православной традицией? И настолько ли глубоко зашла у нас секуляризация, чтобы открыть дорогу модернизации? У меня на сей счет – большие сомнения. А по поводу традиций – не только византийских, но и самобытно-российских, на которые она могла бы опереться, сомнений еще больше. И исторические экскурсы Михаила Николаевича эти сомнения не развеивают.
В докладе говорится, например, о «варварской модернизации», якобы осуществленной на Руси варяжскими князьями. Но это – неправомерное расширение понятия «модернизация». Под ней понимается обычно переход от традиционного общества, находящегося на государственной стадии эволюции, к обществу современному, от имманентно экстенсивного состояния к имманентно интенсивному. В Киевской Руси ничего такого не наблюдалось, а потому «варварская модернизация» – вольное использование термина, которое вряд ли можно считать убедительным доказательством тезиса о русской европейской идентичности.
Далее в докладе упоминается торговый капитал, выраставший из военно-коммерческого предпринимательства. Да, это в Киевской Руси было, это чистая правда. Но мировая история свидетельствует и о том, что торговый капитал, вырастающий из военно-коммерческого предпринимательства, совсем не всегда нес в себе историческую динамику. Она мог породить что-то перспективное в дальнейшем, а мог оказаться исторически тупиковым предприятием.
К примеру, военно-коммерческое предпринимательство финикийцев не перевело их на следующую ступень развития. А, скажем, у греков оно вначале тоже имело место, но потом они смогли изобрести античность, т.е. создать исторически перспективную цивилизационную модель, способную к саморазвитию. Повторяю: ранние формы военно-коммерческого предпринимательства могут содержать в себе потенцию исторического развития, а могут вести в тупик. Наш случай оказался как раз тупиковым.
Неправомерным выглядит и использование в докладе термина «возрождение» применительно к Московии XIV–XV веков. Что именно она могла возрождать? У этого термина есть две трактовки. Первая и общепринятая заключается в том, что Возрождение – уникальный феномен, который реализовался в определенную эпоху не территории бывшего античного мира. Вторая трактовка разрабатывалась в 60-е годы XX века, когда под возрождением стали понимать ситуацию, в которой цивилизации второго или третьего цикла актуализировали наследие предшествующего развития. Так случалось в Китае. Но к нашему случаю ни первая, ни вторая трактовки не применимы.
На пространствах, где не ступала нога римского легионера, возрождение в его европейском понимании невозможно. Но и в другом его толковании, о котором я говорил, оно в Московии ХIV–ХV столетий было невозможно тоже. Когда у тебя за спиной 40 поколений людей, живших в государстве и цивилизации, – это один рисунок социальной и культурной реальности. Это определенная ментальность, определенное предметное тело культуры, определенные традиции. Когда же у тебя за спиной всего пять-шесть поколений, живших в государстве, и неолитические стоянки в качестве материальных свидетельств предшествующей истории, то это совершенно другой расклад. И это как раз наш с вами расклад. Мы должны понимать это и помнить об этом. Мы живем в стране, где в начале XX века крестьяне верили в реальность существования Опонского царства, т.е. в жизнь без государства и без цивилизации.
Не вдохновило меня и то, что в докладе Михаила Николаевича говорится о Новгороде. Новгородская Русь конца XV века названа автором процветающей. Это насилие над историей. В конце первой половины XV века Василий Темный громит Новгород, в котором укрывался Шемяка. И уже тогда Новгород признает главенство Москвы, потому что она была сильнее. А в 1478 году Иван III просто присоединяет новгородские земли к Московии. Напомню, что в 70-е годы прошлого века в Советском Союзе ходило выражение: «Волк – санитар леса». Так вот, Москва, съев Новгород, явила себя этаким хищником-санитаром, который добивал государства, переживавшие глубочайший кризис. И тут я должен сказать одну вещь, о который, по-моему, никто не говорит.
Дело в том, что торговые города или торговые государства по своей природе болеют локализмом. Это способ мышления, который их конституирует. Они не способны к интеграции больших пространств и не созидают устойчивых интегрированных империй. Торговые города-государства на это не способны. Поэтому, кстати, они не могут породить и зрелый капитализм, который нуждается в широком пространстве для развития рынка. Они могут существовать на стадиях докапиталистической торговли, но конкуренцию с крупными государственными образованиями они не в состоянии долго выдерживать и на этих стадиях.
Именно поэтому Карфаген проиграл Риму. Рим создал империю, которая смогла мобилизовать ресурсы, необходимые для того, чтобы Карфаген разбить. Заметьте, карфагенские колонии, когда шла Вторая Пуническая война, объявляли себя нейтральными, поддерживать свою «метрополию» они отказывались. И еще заметьте: в Европе есть два пространства, где города-государства были сильны в Средневековье. Это Германия и Италия. На этих пространствах национальные государства возникли лишь в 60-е годы XIX века. А возникнув, столкнулись с наследием упомянутого мной локализма. Не зря итальянские интеллектуалы говорили в то время: «Италию мы создали, теперь надо создавать итальянцев». То же самое относится к немцам. Локализм сознания, присущий торговой республике, – принципиально важная вещь. О ней надо помнить, когда мы рассуждаем и о российской истории. Новгород не мог стать реальной исторической и культурной альтернативой Москве.
Теперь относительно того, хотят ли современные россияне демократии. Думаю, автор прав в том, что спрос на нее возрастает, что есть такая тенденция. Но есть и общественный договор, который конституирован первым избранием Путина. Общество обменяло свою политическую субъектность и свою политическую свободу на патернализм и гарантию устойчивого экономического роста, пусть и самого скромного. Конечно, такой выбор общества не является окончательным. Но он состоялся, и мы должны это осознавать и осмысливать.
Да, в докладе осмысление этого присутствует, и я в данном случае со многим в нем согласен. Но ведь такой выбор имеет и общекультурную составляющую. Если бы в России была жива та культурная традиция, которую рисует Михаил Николаевич, то патерналистский выбор большинства был бы невозможен. Также невозможен был бы и беспредел, о котором в докладе говорится применительно к правам собственности.
В обществах с устойчивыми демократическими традициями, предполагающими неприкосновенность законной собственности граждан, многие эпизоды и прошлой, и современной российской истории были бы немыслимы в принципе. При наличии таких традиций, если власть вдруг утрачивает чувство реальности и начинает творить беспредел, население просто вешает агентов этой власти на деревьях. И, знаете, это дисциплинирует. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать.
Игорь Клямкин:
Спасибо, Игорь Григорьевич. Основная идея вашего выступления, как я понял, заключается в том, что линию исторической и культурной преемственности нельзя прочерчивать, апеллируя к тенденциям, которые оказались нежизнеспособными. Но значит ли это, что европеизация России, если таковой суждено состояться, обречена начинаться с исторического и культурного нуля? Ведь та же секуляризация, в которой вы видите главное условие российской модернизации, началась в стране не сегодня и даже не вчера. Думаю, что здесь есть предмет для обсуждения, и надеюсь, что разговор на эту тему будет продолжен.
Алексей Алексеевич Кара-Мурза, пожалуйста.
Алексей Кара-Мурза (заведующий отделом Института философии РАН):
«Почему столь мощная либеральная интеллектуальная традиция, постоянно присутствующая в русской мысли, до сих пор проигрывает политически?»
Михаил Николаевич выступил перед нами не как социолог или историк, а как идеолог. Текст, который им представлен, – это идеологический текст. И обсуждать нам, как я понял, он предлагает не конкретную историю ХIV, ХV веков или какого-то другого столетия (для этого нужен совсем другой состав экспертов), а нечто иное.
Главная посылка доклада заключается не в том, что кто-то переврал историю России, и надо бы восстановить истину, а в том, что надоела эта сурковская пропаганда о том, что Россия имеет какой-то особый цивилизационный генотип, который прямо противоположен демократии, либерализму, европеизму. Эта идеологема – опасный миф. И вопрос в том, надо ли противопоставлять ему другой миф, другую идеологему?
Как многие здесь знают, я всегда был сторонником такой идеологической альтернативы и даже дал ей название – «либеральное почвенничество». И альтернатива эта – не выдуманная, она глубоко укоренена в российской истории. В русской культурной почве – огромное количество либеральных интенций, которые надо только политически актуализировать. Либеральные идеи глубоко пропитывают отечественную интеллектуальную традицию, что и позволило нам издать в «Либеральной миссии» огромную, почти тысячестраничную антологию русского либерализма.
Кстати, приверженцы других политических идеологий ничего подобного не издали. Нет ни антологии русской консервативной мысли, ни антологии русской социалистической мысли. И понятно почему: совокуплять Сталина с Чернышевским на социалистический манер или Сталина с Карамзиным на манер консервативный – это смешно. А мы смогли написать реальную историю русской либеральной мысли, имеющей глубинные мировоззренческие основания и проекции в обществе. Но факт и то, что интеллектуальная традиция, в этой мысли постоянно воспроизводящаяся, политически пока что проигрывает.
Отсюда – вопрос: почему так много либерализма в почве и почему он тем не менее проигрывает политически? Ответить на него и призван, по-моему, проект, осуществление которого мы сегодня начинаем. Ответить так, чтобы исключить дальнейшие проигрыши. Или, по меньшей мере, тому способствовать. И Михаил Николаевич показывает нам, что успех возможен, что игра стоит свеч. Он показывает, что мы можем составить хороший идеологический пасьянс и обыграть любого.
При этом перед нами не стоит вопрос о том, что является исторической правдой в последней инстанции. Конечно, исторических натяжек, а тем более ошибок быть не должно. Но воевать по поводу того, чем была Россия исторически, можно еще тысячу лет. А о том, что делать с сегодняшней Россией, с ее нынешней идеологией, надо думать уже сейчас. Но это значит – думать и о том, возможна ли генерализация русской истории с либеральной позиции и на либеральную перспективу.
С этой позиции, кстати, кое-что видно даже из окна кабинета, в котором мы находимся. Вон там – Нарышкинские палаты, где, по многим данным, родился Петр Алексеевич Романов; здесь он родился, а не в Кремле. А вон там – дом, в котором жил Борис Николаевич Чичерин, один из крупнейших русских либеральных мыслителей. С этой же позиции смотрит на отечественную историю и Михаил Афанасьев, и его идеологически заостренный взгляд заслуживает нашего внимания именно потому, что он идеологически заострен.
Разумеется, такой проект, повторю, должен быть исторически корректным. Разумеется, для его экспертизы нам нужны профессионалы. Но я бы не хотел, чтобы в своем увлечении критическим анализом предложенных интерпретаций исторической конкретики мы сразу же поставили под сомнение сам проект.
Игорь Клямкин:
Доклад Михаила Николаевича действительно представляет собой заявку на идеологическую интерпретацию российской истории, на фиксацию в ней политико-культурных точек опоры для европеизации. Но вопрос-то в том, в каких периодах эти точки искать. В киево-новгородской эпохе, как предлагает докладчик? В первом послемонгольском столетии, на чем настаивает Александр Янов? В реформах Петра I, родившегося не в Кремле, а в Нарышкинских палатах, о чем проинформировал нас Алексей Кара-Мурза? В послепетровской России, в которой появилась упомянутая им же русская либеральная политическая мысль? Где-то еще? Ведь именно об этом мы не можем договориться, и именно в этом я вижу смысл едва ли не всех наших дискуссий о российской истории. Сегодняшней – в том числе.
Слово – Эмилю Паину.
Эмиль Паин:
«Вместо войны мифов нужна демифологизация истории»
Поскольку доклад Михаила Николаевича мотивирован не только сугубо исследовательским интересом, но и прикладными политическими задачами, я выскажусь по поводу идеологической и политтехнологической ценности главной его идеи: «Россия со времен Киево-Новгородской Руси – носитель европейской культуры, европейских ценностей».
Так совпало, что как раз в эти дни я заканчиваю редактировать сборник статей, посвященный идеологии «особого пути» в России и Германии. В этой работе немецкие и российские эксперты (историки, социологи, политологи) анализируют истоки возникновения данной идеологии. Исследователи пришли к выводу, что в периоды формирования нации и кризисов национальной идентичности даже в Германии, которая для России всегда была Европой и Западом, идея «мы – особые», «мы – не Европа» была куда более выигрышной, чем идея «мы – часть Европы». Потому что позиция «мы – не они» в условиях национально-полового созревания имеет неизмеримо большие шансы на массовую поддержку, чем позиция противоположная: «Мы – часть их». И не так уж удивительно, что идею культурной исключительности своей нации в такие времена защищают даже могучие умы, как, например, Томас Манн в 1920-е годы.
Но в той же Германии в начале прошлого века были и другие интеллектуалы. И я – на их стороне. Я на стороне Макса Вебера, который настаивал на том, что вместо войны мифов нужна демифологизация истории, нужна рационализация знания. Это честное и порядочное занятие всякого интеллектуала, названное Вебером «расколдовыванием мира». И такое расколдовывание, если говорить о сегодняшней России, уж точно состоит не в том, чтобы одному мифу (об извечном рабском сознании русского народа, его антизападничестве и склонности к деспотизму) противопоставить другой миф (об исконной и непрерывной его европейскости). Это как раз тот самый случай, когда применима формула Сталина насчет того, что «оба хуже».
Моя позиция такова, что роль культурного наследия и истории вообще применительно к обществам, в значительной степени уже утратившим патриархальные черты, сильно преувеличена. Я полагаю, что история культуры доказывает только то, что у народа, у нации (в политическом смысле этого слова, понимаемом как «согражданство») всегда есть выбор. Ментальные архетипы, о которых упоминал Михаил Николаевич Афанасьев со ссылкой на Милюкова, не способны предотвратить одновременное существование разных политических установок и различий в ценностях у людей в пределах одних и тех же этнических сообществ. Так было в прошлом, когда одновременно существовали и Новгородская республика, и Великое Суздальское княжество, лишенное каких-либо признаков республиканского строя, а на Апеннинском полуострове – Флорентийская республика и Сицилийское королевство. Так же происходит и ныне. Достаточно сказать об уже упоминавшихся здесь двух принципиально разных политических режимах у одного народа, например о Северной и Южной Корее.
Далее, если прошлое не создает непреодолимых барьеров для политического выбора, то оно же не дает и бонуса на вечное процветание того или иного народа. Вот, скажем, присутствующий здесь Андрей Пелипенко в споре с Александром Яновым заметил, что «не было никаких российских Афин», имея в виду то, что Московия времен Ивана III не была аналогом республик Древней Греции. Ну а если бы даже была, то что из того следовало бы? Какой бонус выдали Афины с их республиканским строем и правовым сознанием населению современной Греции? Да и во многих других случаях о таких бонусах говорить не приходится.
Бесспорно влияние Флорентийской республики не только на развитие культуры Возрождения, но и на формирование всей европейской культуры. Однако в той же Тоскане после республики два века существовало тосканское герцогство, ставшее оплотом инквизиции. В Италии – этой наследнице римского права и республик эпохи Ренессанса – задержался процесс формирования нации, он протекал здесь более мучительно, чем во многих других странах Европы, не имевших давних республиканских традиций. Да и современный уровень правосознания населения Италии – один из самых низких в объединенной Европе. Вот вам и бонус на всю оставшуюся жизнь.
Доказать позитивное влияние северных русских районов, входивших в состав Новгородской республики, на современную жизнь России еще сложнее. Михаил Николаевич в качестве такого доказательства использует классификацию российских регионов по уровню развития гражданской активности. Оказывается, что из 15 регионов, которые входят в группу с показателями гражданской активности, превышающими средние по стране, около половины (семь регионов) в какие-то века входили в состав Великого Новгорода. Но это не очень-то убедительное доказательство исторического влияния так называемого северного Ренессанса на современную жизнь России.
Во-первых, в первую группу регионов, имеющих самый высокий уровень развития гражданской активности, входят территории, которые никогда не входили в состав Новгородских земель. Это четыре самых богатых наших региона – Москва, Московская область, Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Думаю, что и без привлечения данных истории и культурологии легко отгадать, почему именно эти субъекты федерации находятся в лидерах, и чем они похожи друг на друга. Вряд ли культурная традиция позволит объяснить, почему в этой группе оказался Ханты-Мансийский округ. По крайней мере, это трудно связать с традициями его коренного населения – хантов и манси.
Во-вторых, и те семь регионов, на которые ссылается автор доклада, имеют лишь сугубо географическую связь с Новгородской республикой. Например, Карелия никогда не была органической частью этой республики, поскольку существовала в ней на правах колонии, завоеванной территории, после чего стала частью Шведского королевства. Но вряд ли современная Карелия может быть носителем и шведской культурной традиции, поскольку ее население с тех пор кардинально изменилось. В XVI веке она была населена преимущественно народами угро-финской группы. В 1926 году представители этой группы (карелы) составляли уже только около половины ее населения, а сейчас и того меньше – около 9%.
Пермская область тоже когда-то входила в состав Великого Новгорода. Не буду говорить, какие народы тогда составляли в ее населении большинство. Замечу лишь, что в 1940-е и послевоенные годы его состав изменился более чем на 60%. Мой приятель, уже упоминавшийся здесь известный географ Леонид Смирнягин, так характеризует процесс радикальной смены состава населения: «Адрес остался, а жильцы сменились». Но носителем культурных традиций является все же не адрес, а жильцы.
Так что никакой непрерывной культурной традиции Великого Новгорода, на мой взгляд, не существовало, и трудно доказать обратное. Это не имеет и практического смысла. Михаил Николаевич и сам понимает, что в российских условиях уровень трансляции традиций и сохранности социальных институтов, которые их поддерживают, очень невысок. Какой же смысл доказывать наличие исторических корней современного российского западничества, если эти корни выкорчеваны?
Михаил Николаевич тем не менее полагает, что смысл все же есть, и видит его в возможности использовать историко-культурное почвенничество для легитимации западных норм в современной России. Но я уже говорил, что сомневаюсь в пользе такой политической технологии. И, прежде всего, потому, что в России, где процесс формирования политической нации остается незавершенным, спрос на идею «особого пути» выше, чем на противоположную идею идентификации своего народа с какой-то большей общностью. Например, с европейской. Сошлюсь на публикации М. Магуна, в которых показано, что Россия вместе с Тайванем делит последнее 33-е место среди обследованных стран мира по степени отождествления граждан со своим континентом. Иначе говоря, большинство россиян не считают свою страну ни частью Европы, ни частью Азии: «Россия сама по себе, у нее особый путь». Вот на это и есть спрос.
Сказанное подтверждается и другими особенностями массового сознания наших сограждан, в том числе и его чрезвычайной историизированностью. Международные кросскультурные исследования показывают, что россияне больше, чем жители других европейских стран, черпают основания для гордости своей страной в ее прошлом. Но какое прошлое их интересует? Их интересуют, прежде всего, великие победы: «Мы им показали» или «Мы их всех спасли». Это значит, что интерес к отталкиванию от Европы и Запада опять-таки явно преобладает над интересом к поиску общих с Западом корней. А это, в свою очередь, означает, что концепции, выдвигающие на передний план культурное родство России и Европы, не могут пользоваться большим спросом.
Слабый интерес к ним обусловлен вовсе не тем, что люди о них плохо осведомлены. Возможно, историческая концепция Милюкова сейчас забыта, но аналогичная по своей функции концепция Янова широко известна. Однако и она не внесла переворота в массовое сознание. И это судьба всех подобных концепций, отличающихся друг от друга лишь временем отсчета европейской истории России – от Великого Новгорода, от Ивана III или Петра I.
Повторяю: спроса на подобные идеи в современной России нет. А когда такой спрос появляется? Такое происходит в периоды модернизации, когда общество стремится к обновлению, к переменам. Тогда Запад из объекта отталкивания становится объектом для подражания. В таких случаях может возникнуть и стремление обосновать актуальный интерес людей к вестернизации ссылками на европейские корни России. История в политтехнологических конструкциях выступает средством легитимации новых социальных и политических интересов за счет придания им образа исторической традиционности. Отсюда мой вывод: если уж ставится задача исторической легитимации либерализма и западничества в России, то вначале она может решаться только посредством изменения актуальных интересов общества, их рационализации. И лишь затем уже эти новые интересы могут потребовать опоры на исторические мифы, новоделы, квазитрадиции.