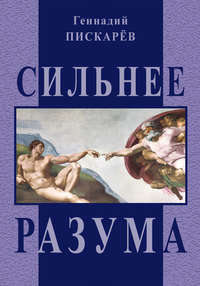
Сильнее разума
Разумеется, мало кто из нас, обормотов, заглянул в библиотеку, чтобы полистать тургеневские новеллы, на кои обратила внимание наша учительница, и поэтому при проверке, как мы усвоили тему, услышала она в ответ от опрошенных невнятное бормотанье. Дошла очередь до меня. Конечно же, я тоже не брал в руки книги, но на удивленье всем, бойко отбарабанил, что надо.
– Сколько же раз ты перечитал рассказы? – взметнула брови Прасковья Филипповна. И тут я сообразил: если честно скажу, что ни разу, меня сочтут за бахвала-выскочку. И потому смиренно произнес:
– Два.
– Вот, – подхватила учительница, что значит не полениться. Садись, Пискарев, отлично.
Между прочим, хрестоматийные повести-рассказы, пьесы я прочитывал еще летом – из любопытства, из неукротимого желания почитать в свободное время что-нибудь этакое. В деревне нашей библиотеки (увы) не было, кстати, и в Глебовском тоже. Школьная библиотека в каникулы не работала. И вообще, первые книжки, предназначенные не для учебы, а просто для чтения, я увидел в школе, учась в третьем классе. Тогда из райцентра под ответственность педагогов завезли нам стотомный комплект художественной литературы.
Первая книга, которую мне выдала Серафима Алексеевна Хапова, называлась «Путешествия Гулливера». Ее, если одолею, должен был вернуть я через неделю. Вернул на другой день (взахлеб читал всю ночь), в надежде получить новое произведение. Через некоторое время на меня, как на феномена, показывали пальцем даже взрослые: «Прочел всю школьную библиотеку».
В школах, ребята-одноклассники «умников», говорят, поколачивают. Странно, но на себе я этого не испытал. Напротив, чувствовал некоторое обожание. Как обожали Кольку Кузнецова, прошедшего до четвертого класса без запинки. Мой троюродный брат Витька, без второгодничества добравшийся до 10 класса, был прямо-таки в глазах односельчан героем. Споткнулся Витька на выпускном аттестатном экзамене по русскому языку и литературе, написав сочинение, в котором проверяющие выявили… 15 грамматических и синтаксических ошибок. Как умудрился их сделать Витька, знали немногие. Дело в том, что экзамен пришелся на день, когда в соседней деревне отмечали престольный праздник, а Витька, бесшабашный малый, заглянув поутру к дружку своему Генке Кашину, хватанул с ним энное количество самогонки. Забродило в голове. И результат – аттестат после переэкзаменовки получил бравый школяр только осенью. Правда, ни его самого, ни его родителей сие не огорчило, не удручило. Витька преспокойненько поступил на курсы сыроваренных мастеров, что находились при специфическом НИИ в городе Угличе Ярославской области. Нас тогда не очень ориентировали на продолжение учебы – в институтах, скажем. Ребята, поступившие после школы в Буйский сельскохозяйственный техникум (учебное заведение, надо сказать, всесоюзного значения: выпускники его получали распределение не только в хозяйства нашей области, но и в совхозы, колхозы по всему Советскому Союзу.), или в железнодорожное училище, а то на курсы электриков, были желанными, почитаемыми гостями на устраиваемых в школе встречах с бывшими одноклассниками.
Глебовско-пилатовская сторона, представителями которой были и я, и Витька, и еще человек двадцать ребят, в интеллигентных кругах села Контеево, куда мы ходили с пятого по десятый класс, в среднюю школу, считалась «медвежьим углом». То, что в нашем краю, за устьем реки Тёбзы, впадающей в реку Кострому, водились медведи – это точно. Сам в детстве с противоположного берега наблюдал, как медведица купала медвежат в протоке. А бабушка моя, Варвара Ивановна, собирая в лесу малину, неожиданно столкнулась как-то с косолапым, выползшим из берлоги своей по ягоды, что называется, лицом к лицу. Кто больше перепугался от этого, сказать трудно. Только от истошного крика бабки Топтыгин рванул в кусты, оставляя своеобразные следы от внезапно случившейся с ним «медвежьей болезни». Да что там, глухой овраг с протекающим по нему ледяным ручьем за деревней, так и назывался у нас – Медведухой, а ржаные поля за околицей – «Большим лесом». Старики хорошо помнили этот лес въяве и то, как вручную корчевали сосны и ели в обхват, отвоевывая у суровой природы землю под рожь, картофель и лен (ныне, благодаря демократическим реформам, здесь снова растет лес, только не сосновый и еловый, а чертопо-лошный, сорно-ольховый и ивовый).
Водились у нас и волки. До коллективизации у моего отца на пастбище загрызли они лучшего жеребца «Карьку». В войну волки разбежались, перепугавшись взрывов и грохотов танков на полигоне, что был обустроен под нашим райцентром – городом Буем. Мелкое же зверье осталось. Бывало, идешь зимой рано утром в школу (занятия у первой смены начинались в 8 часов), смотришь, а параллельно, шагах в двадцати рыжая лиса. Нахальная, знает, что ты ей ничего не сделаешь, смотрит на тебя, хвостом метет, в снегу купается. Между прочим, Н.А.Некрасов «Деда Мазая и зайцев» написал, охотясь в знакомых нам местах. А знаменитых «Коробейников» посвятил другу-приятелю Гавриле Яковлевичу – крестьянину деревни Шоды, что располагалась в нашей стороне. То-то многие мои дремучие, полуграмотные земляки могли петь под гармошку, народную, как считалось, песню «Коробочка», не прерываясь по часу. Потому как знали наизусть не пять-шесть куплетов, которые исполнялись и исполняются повсеместно ныне, а всю многостраничную поэму Николая Алексеевича.
И все же взгляд на нашу сторону как на «медвежий угол» формировался у контеевских культурных граждан, думается, не столько по причине отдаленности ее от центра, сколько из-за кондовости быта и нравов людей, живущих здесь. Избы, крытые соломой, бородатые мужики, своеобразный акцент речи, пьяные отчаянные драки, своеобразная одежда, – как-то самодельные шубы со сборами, валяные сапоги, кепки-восьмиклинки, домотканые полотенца – все это будто бы прорвалось в середину 20 века из прошлых веков. И, право, когда я, учась в 8 классе, читал в Толстовском «Петре I» об убогости быта селян того времени, их одеянии, поведении, мне казалось: Толстой рассказывает не о ком-то и о чем-то, а о моей деревне, людях, рядом со мной проживающих. Я уж не говорю о схожести природных ландшафтов, о вечно сияющей красоте молчаливой природы. Меня с детства окружали и некрасовские «несжатые полосы», и пушкинские с солнцем морозы и никитинский белый пар от реки и прочее, прочее, что вливалось в распахнутую душу потоком, закреплялось в ней на всю жизнь, формируя истинно русский характер – восторженный и грустный, вспыльчивый и раздумчивый…
Глебовско-пилатовская ватага (мы ходили в школу единой командой: у нас было правило – ждать друг друга и идти на занятия вместе) считалась буйной и грозной, могла постоять за себя в стычках с другой не менее удалой стороной – «корёжиной». И, понятно, отношение педагогического состава к нам было «определенное». Чего было ждать от медвежат, дерзких, хулиганистых.
Надо сказать, мое первое произведение (стихотворное) в форме книги (рукописной, иллюстрированной двоюродным братом Костей Головиным) появилось в те годы. В нем излагались в пародийной форме рассказы нашего военрука Петра Васильевича Курузова о собственной фронтовой жизни. Петр был мужем нашей дальней родственницы, в войну служил на полигоне под Буем в звании старшего лейтенанта. Это знали хорошо мои родственники, знали и мы с братом. Знали, кстати, и то, что изгнан он был из армии за нечестивое поведение (между прочим, бросил Петр Васильевич подло в свое время первую довоенную жену). И потому мое резюме под карикатурами бравого вояки в самодельной из порезанной на равные части школьной тетради книге, разошедшееся не только по школе, но и по селу, взывало к читателям соответственно:
Вы ему не верьте:Нигде он не бывал.И, думаю, по блатуВ учителя попал.Язык мой проклятый. Даже с моей матерью теперь разговаривали родственники Курузовы, глядя в сторону и сквозь зубы.
Бедная мать моя. Сколько же ей пришлось перетерпеть всего из-за сына своего. И в те времена, когда я был маленьким и когда, что называется, вымахал с «коломенскую версту» и работал в газете. Прототипы многих моих «героев», людей с вывихнутой совестью, о которых я рассказывал в печати, были хорошо узнаваемы моими земляками и самими фигурантами. И их реакция была «адекватная». У матери травили кур, вытаптывали огород, отказывали в лошаденке для поездки за дровами.
А тогда… Ходил со швейной Зингеревской машинкой по нашей округе некий портной «Коля Хромой», перешивал старую одежду нуждающимся. Сытый, самодовольный. Рассказывал, что он герой гражданской войны, ранен был в ногу, оттого, дескать, и хромота и приставшая кличка. Жил «Хромой» в райцентре, имел в собственности половинку дома рядом с рынком. Моя мать нередко, пользуясь знакомством с Колей – он у нас останавливался довольно часто – иногда оставляла у него нераспроданные лук или картошку до следующего базарного дня. Чувствовалось, Коля был неравнодушен к солдатке-вдове. Однажды накануне первомайского праздника, который отмечался в городе, по моему детскому восприятию, как престольный, даже забрал меня к себе. Тут-то от соседей я узнал, что удалой портняжка никакой не герой гражданской, а обычный калека, получивший травму в детстве – катаясь с горки на коньках. Узнал я, вернее испытал на собственной шкуре, что «герой с дырой» невероятный жмот. Чаем не напоил по приезду, утром оставил без завтрака. После чего я просто-напросто сбежал к своей тетке по отцу, жившей на окраине города. Куда, между-прочим, к праздничному столу, приперся и Коля Хромой, выставляя себя, как благодетеля моего. А я, «благодарный», в присутствии всей родни, и матери моей в том числе, коварно-наивно спрашиваю:
– Дядя Коля! А на каких коньках ты катался, когда колено расшиб?
Пассаж… «Хромой» после этого у нас не останавливался, А мать лишилась близкого от базарной площади складского помещения.
После войны пришлые люди: попрошайки, мастеровые, печники, плотники, в деревнях наших были не редкость. Запомнился «бродячий сапожник «Пантелешка» – по документам Александр Пантелеев, демобилизованный фронтовик. Был он, по всей вероятности, человеком контуженным, с ним случались истерики, а горькую пил он уж точно как представитель профессии, которую представлял. Порою он с выпивкой «завязывал» – копил деньги, чтобы, как говорил, вернуться в Мурманск, где у него якобы остались родные. Однажды, уж совсем было собрался: купил сапоги яловые, телогрейку новую, да решил «обмыть» отъезд и сорвался. Пошло-поехало все сначала.
Говорят, он тоже поглядывал на мать мою, но сомневаюсь, чтобы у матери были какие-то намерения относительно его. Кончил же он очень плохо, заснул несчастный солдат мертвецки пьяный в овинной печи, наутро, придя сушить зерно, мужики развели огонь и уморили бедолагу.
А жених «Коля Хромой», спустя годы (я тогда жил и работал уже в Москве, готовился к переезду в столицу матери), дал о себе знать: написал в деревню письмо, в котором просил мою мать оформить с ним отношения, обещал подписать на имя ее и недвижимую собственность (половинку дома) и денежные сбережения. Мать ответила (быть может и жестоко): «Как нянька, я нужней буду внучкам».
Я привожу здесь все эти многочисленные житейские истории вовсе не по причине недержания мысли, слова. Нет, я хочу показать, как накладывало все происходящее специфический отпечаток на формирование характера молодого парня. Не видевший «грязи» в доме, обожающий гордую мать свою, я рос целомудренным чистым открытым мальчишкой. И бурые пятна действительности, падающие на неиспорченную душу мою нередко, как брызги холодной воды, соприкоснувшиеся с раскаленной сковородкой, резко взлетали вверх, обжигая, шпаря окружающих…
С другой стороны, встречая противодействие этому, живя в окружении людей, поглощенных земными тяжелыми, повседневными заботами, мне приходилось сдерживать норов, не очень «выпячиваться», что рождало в душе особого рода скрытность, внешне похожую чуть ли не на застенчивость. А это, к великому сожалению, понукало к действиям, характерным для всех. Я писал, к примеру, стихи, но в том, что хотел стать литератором, не признавался и самому себе. Не верил, что такое возможно. Трактористом, шофером, моряком даже, – да! Но кем-то другим? Не было среди моего ближнего и дальнего окружения, кто мог бы меня сориентировать на это. Педагоги? Увы! Они часто менялись в нашей школе. Не все распределенные учителя и учительницы после вузов и техникумов приживались в нашем захолустном краю. Да и ученики-то с той же глебовско-пилатовской стороны вели себя, повторю, как отпетые, «атландеры».
Дрались, частушки горланили. Были среди них и такие:
Дорогой товарищ СталинБез коровушки оставил.Ворошилов говорит:«Коза-то больше надоит».На уроках преподавателей с нестойким характером наша братия превращалась в бурсаков из известных очерков Помяловского.
Был у нас учитель географии и немецкого языка Илья Михайлович Маклаков, подверженный известной слабости. Случалось и в класс приходил педагог «веселенький», чем естественно возбуждал у деспотов-школьников веселье особое. Володя Дубов, наш товарищ, заходил в таких случаях на занятия после Ильи Михайловича, заходил, не спрашивая разрешения у учителя и не снимая с головы блатной кепки, повернутой козырьком назад. Поравнявшись с учительским столом, бросал Маклакову небрежно: «Привет» и вразвалочку удалялся на заднюю парту спать.
– Дубов, Дубов, – урезонивал Илья Михайлович вальяжного ученика, – что это за панибратство.
В ответ ноль внимания. Илья Михайлович поднимался из-за стола и сопровождаемый развеселым хором голосов, исполняющих тут же сочиненную песенку:
«Илья Михалыч входит в класс,Глазки, как у зайчика,Потому что перед этимПринял полстаканчика»,– посрамлено удалялся.
Но этот же Илья Михайлович в войну бывший переводчиком в разведотряде, первым среди школьных педагогов наиболее внимательно присмотрелся к хулиганствующим элементам, он даже нашел в лесочке вырытую нами землянку, где иногда прогуливали мы уроки, читая понравившуюся ту или иную книгу Однажды застал он нас, когда Вовка Ремов, склонившись над керосиновой лампой сладострастно зачитывал вслух из гётовского «Фауста» – сцену соблазнения Мефистофелем Маргариты.
«Пускай старушки говорятЛюбовь мужчины это яд».Можно представить себе удивление учителя, заставшего учеников своих за чтением произведения, изучение которого не предусматривалась тогда в школьной программе, и которого в школьной библиотеке не имелось. Кстати, я тоже не знаю, откуда взялся у Вовки Ремова «Фауст», тем более с пикантной сценой соблазнения молоденькой девушки.
Спустя многие годы, учась в Московском университете, я пытался найти ее в пастернаковских переводах Гете – не нашел. А в детстве вот познакомился, как познакомился, кстати, и с Фейхтвангеровским проходимцем Крулем. В деревне, где все называлось своими именами, поэтизация великими мировыми художниками той же плотской любви, казалась невероятной. Но дело свое очистительное делала. И Маклаков после долгого задушевно-проникновенного разговора с нами, пообещав, что никому не расскажет о нашей землянке, уходя, хлопнув Во-лодьку по плечу, сказал:
– Преступлением будет, если ты не окончишь школу с медалью.
Но вернусь все же к «Фаусту». Его, вероятно, привез кто-нибудь из служивших в Германии солдат. У нас в Пилатово, помню, зимними вечерами, собиралось полдеревни у дяди Саши Бороздкина, послушать читаемого по очереди «Кобзаря» – его дяде Саше, бывшему военнопленному, кстати, нисколько не преследуемого властями, подарил какой-то хохол. Врезалась в память националистического звучания поэма Тараса Шевченко «Катерина», начинающаяся словами:
Чернобровые влюбляйтесь,Но не с москалями.Москали – чужие люди,Глумятся над вами.В «избе-читальне» Бороздкина знакомились наши малограмотные мужики и бабы даже с творчеством Льва Толстого. Его дореволюционное издание некоторых книг приносил я из своего дома, найдя их в старом ларе из-под муки. У нас они оказались потому, что первый председатель пилатовского колхоза – Круговеня, друг моего деда, был приверженцем толстовского учения – «непротивления злу насилием». Когда началась война, он передал моему деду книжки Толстого плюс избранное собрание сочинений Пушкина в кожаном переплете на хранение и ушел на призывной пункт, где заявил, что по определенному убеждению, он не может брать в руки оружия. Круговеня умер в областной тюрьме, объявив голодовку. И такое бывало.
А вдохнувший в нас веру, Илья Михайлович проработал в Контеево только год – его перевели куда-то. Не закончил с медалью школу и Вовка Ремов: его зарезал на вечеринке одногодок и односельчанин Сашка Абакумов. Зарезал просто так, в кураже, ткнул ножом и попал прямо в сердце.
Сашку судили. Получил «вышку». В областной газете «Северная правда» напечатали соответствующее решение суда и сообщение о приведенном в исполнение приговоре.
Однажды летом, когда я учился в МГУ им. Ломоносова, после очередной сессии приехал я к матери и услышал потрясающую новость, что Сашка Абакумов жив, сидит в каких-то особых лагерях в Ворошиловградской области. Потом спустя годы, работая спецкором газеты ЦК КПСС «Сельская жизнь», я побывал в тех местах, и даже в районе – Знаменском, где располагались эти лагеря. Подарок от начальника лагеря получил – наборный с выскакивающим лезвием изогнутый нож, сделанный каким-то умельцем-уголовником. А лагеря и впрямь тут были особые: здесь на урановых рудниках (есть, есть такие в Ворошиловградской Знаменке) работали в основном заключенные-смертники, как правило, получившие «вышку» не за рецидивно-бандитские действия, а за поступок, хотя и страшный, но совершенный по дурости. Так зачем же расстреливать не буяна, не отморозка, решили тогдашние власти, если его можно использовать бесплатно на такой работе, где обычный человек не выдержит. Кстати, после кончины «отца народов» Иосифа Сталина не сразу, но Сашку Абакумова выпустили на волю – умирающего от лучевой болезни. Мне, однако, удалось с ним встретиться. Поведал он: содержали их в лагере отлично, кормили на убой, постоянно обследовали в медицинском плане. Не то, что других наших ребят, попавших большей частью, так же по глупости, в «тюрьму» – то за обычную драку, то за хищение с колхозного поля картошки или зерна.
А за хищение соцсобственности, надо сказать, карали тогда, ой, как строго. Помните момент из кинофильма «Место встречи изменить нельзя», реплику Ручечника, брошенную капитану милиции Жеглову: – «Указ «семь-восемь» шьешь, начальник». Так вот, принятый сразу же после Великой отечественной войны указ от седьмого августа, предусматривающий усиление уголовной ответственности за хищение социалистической собственности, ударил со всей силой по мужикам моей деревни через четыре дня после его публикации. Подгулявшие накануне – 10 августа – (в этот день у нас отмечается престольный праздник «Смоленская») везли они с «тяжелыми» головами на приемный пункт колхозное зерно. Хотелось опохмелиться. Как? Кому-то пришла в голову мысль продать ведро «ржи-казанки» за поллитровку (кто определит столь ничтожный недовес?) в какой-либо деревне по пути. Так и сделали, не подозревая, что нашелся стукач, сообщивший об этом куда следует.
Вернулись мужички с задания, расселись на лужаечке у Яблоковой горы в ожидании, когда жены закуску приготовят. А тут – глядь – идет Федя Суслов, старший лейтенант милиции, участковый (а «участок» его охватывал деревень 15) – и к отдыхающим.
– Садись, садись, Федя с нами – выпьем, закусим, – загалдели мужики. Федя был свой человек. Ему простодушно тут же и поведали о проданном за бутылку ведре ржи.
– Так выходит, точно, что вы это сделали, – изумился участковый, – ну, коль сами подтверждаете, пойдемте.
Помню эту картинку, гуськом, вслед за Сусловым шагают наши старшие братья и чьи-то отцы, среди коих только что вернувшиеся с фронта бойцы – вон Гена Кокошников, прихрамывающий, идет в сторону разъезда «Бродни», где Федя остановит проходящий товарный поезд и увезет кормильцев на тормозном тамбуре в милицейский райотдел. Помню растерянных баб, кричащих вдогонку: «Куда вы, куда?!»
А дальше был суд. Наверное, показательный. Как для селян, так и для правоохранительных, судебных органов – оперативно сработавших.
Меньше всех, почему-то получил по приговору инвалид войны Кокошников – 10 лет, остальные по 12. Из-под стражи освободили одного дядю Васю Квасникова – хватило ума у того все отрицать: «Самогон не пил, как меняли зерно, не видел». Вернувшись в деревню, окруженный рыдающими и клянущими за чистосердечное признание своих близких бабами, дядя Вася сказал тогда отпечатавшиеся в моем сознании навсегда слова:
– На дороге будет валяться колхозный сноп, пропадать, гнить будет – не подыму.
История с «пилатовскими ворами», потрясшая округу, вероятно, была по стране не единична. У людей высокого ума события такого порядка вызывали глубокие мысли. В главной газете коммунистов, правда, уже в хрущевские времена печатался, помню, уцелевший отрывок из заключительной части (сожженной автором) романа М.А.Шолохова «Они сражались за Родину». Там описывался эпизод встречи после реабилитации, отбывавшего в лагерях 10 лет политического заключенного с отсидевшим 15 лет колхозником-расхитителем. Сравнивая сроки отсидки, бедолага-крестьянин спрашивает политического:
– Выходит моя вина больше чем твоя?
Тот долго думает и отвечает:
– А скажи, не поступи с тобой столь сурово власть, не растащили бы вы тогда колхозы-совхозы?
Ответ потрясающий:
– Да, пожалуй.
Есть над чем призадуматься, не правда ли? Кстати, мужики наши вкалывали, находясь в заключении, на лесоповале в соседнем районе -
Антроповском, куда гоняли на обязательные лесозаготовки и свободных колхозников. Разница в содержании заключалась, похоже, лишь в том, что колхозники жили в бараках «без колючки» и работали совершенно бесплатно, даже еду везли собственную из деревни. «Зэкам же», оказывается, шли какие-то денежные отчисления – за вычетом на содержание и охрану. Запомнилось, отсидевшие за хулиганку, например, не очень большие сроки, наши ребята возвращались домой «приодетыми». Мы с двоюродным братом Костей даже завидовали соседу Борьке Аленину, справившему на тюремные заработки черный шевиотовый костюм – селяне такой роскоши позволить себе не могли.
Беда крылась в ином: попавшие в тюрьму, отсидевшие, особенно молодые парни домой, как правило, не возвращались – оставались то ли наемными рабочими в тамошних леспромхозах, то ли уезжали на «севера»: в Мурманск к рыбакам, в Воркуту на шахты. А еще хуже – некоторых парней «колония» ломала, подталкивала к новым преступлениям, вовлекая в криминальные сообщества. Было, было. Мой школьный товарищ (мы сидели в начальных классах с ним за одной партой), веселый, остроумный Васька Кашин, начавший свою преступную воровскую деятельность, так сказать, с «пятачка» – украл корзину яиц у соседки, закончил «вором в законе».
Я работал в центральной газете в Москве. Приехал в родные места в командировку. У поезда, на перроне железнодорожной станции Буй, меня поджидал первый секретарь РК КПСС Геннадий Петрович Горячев. Выхожу из вагона – глядь – Васька Кашин, в красной рубахе, полон рот железных зубов, вышел к поезду, знать, чтоб купить в вагоне-ресторане пива спозаранку. Увидал меня, бросился обнимать. Партийный секретарь, что топтался позади, остолбенел. Журналист газеты ЦК – в обнимку с известным всей округе, объявившимся после очередной отсидки рецидивистом.
Видит Бог, я любил и люблю свою малую родину, людей ее страстно и беззаветно. Все отпуска до женитьбы проводил я только там. Любой случай, способствующий побывать в родном краю лишний раз, использовал я, не раздумывая. Я общался со всеми знакомыми мне людьми, людьми разных судеб и нравов, пристрастий и пороков. Но благодаря этому я мог понимать многое в жизни сельских людей, понимать то, что мои городские коллеги-журналисты, работающие, скажем, в «Крестьянке, «Сельском механизаторе» или «Сельской нови» уразуметь, взять в толк не могли никак. Отчего материалы их красивые, грамотно изложенные, выглядели нередко просто-напросто мыльными пузырями. «Я знаю Русь, и Русь меня знает» – эти слова, как известно, сказаны великим персонажем из романа Ф.М.Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» – Фомой Опискиным. Человек-ханжа, наглый, самоуверенный, пародийный – но вот тронул он меня своим заявлением.
Без фарисейства опискинского могу сказать о себе: «Я хорошо знал и знаю родную деревню». Но ведь и она хорошо знала меня. И потому никто из корреспондентов «Сельской жизни» не получал на свои выступления такого количества критических, а порой просто злых откликов, как я. Малейшая фальшь подмечалась, и мои земляки простодушно по-свойски реагировали на нее: писали жалобы на Г.Пискарева прямо члену ЦК КПСС главному редактору «Сельской жизни». А уж если в том или ином очерке я каким-либо образом покушался на достоинство знакомого мне человека (обозначенного хотя бы и псевдонимом), мне припоминали все: и выпивки с мужиками на рыбалке, и объятия с Васькой Кашиным, и долгие мои беседы с другим известным рецидивистом – Колей Скобелевым и даже то, что я, рассказывая о подвиге земляков во время войны, своих погибших родственников назвал поименно, в то время, как некоторых других не назвал вовсе. Доходило дело и до того, что я, единственный человек из нашей округи, поступивший в самый престижный ВУЗ страны – МГУ имени М.В.Ломоносова, ни разу не был приглашен в родную школу на встречу с одноклассниками.

