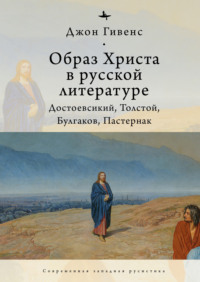
Образ Христа в русской литературе. Достоевский, Толстой, Булгаков, Пастернак
Как у Достоевского, так и у Толстого апофатическая христология служит выражением веры в век неверия, хотя каждая из них ведет нас в своем направлении: у Достоевского это утверждение красоты и совершенства Христа как необходимой действующей силы в спасении человечества; у Толстого – прочь от Иисуса как такового: корректирующая мера, необходимая для того, чтобы обрести по-настоящему важное: учение Иисуса. И Толстой, и Достоевский своей критической христологией подготовили почву для знаменитых пасхальных романов Булгакова и Пастернака, каждый из которых исповедует собственный литературный апофатизм. Образы Христа, явленные нам этими четырьмя авторами, оказались самыми устойчивыми и значимыми в русской литературе последних двух столетий. Эти уникальные образы служат отражением своего времени, с одной стороны, и универсально привлекательны – с другой. Кроме того, каждый из них в отдельности представляет интересное христологическое решение.
В прочтении этих четырех писателей я руководствуюсь объединяющим их литературным апофатизмом, следуя за тем, куда ведет их негативная христология. Кроме того, я прокомментирую еще две общие христологические проблемы в их произведениях; обе они берут начало в Евангелиях и православном богословии. Это противоречие между двумя преобладающими видами любви – эросом (физической любовью) и агапе (любовью духовной)[3] – и тема личности, выраженная в творчестве каждого из авторов: мысль, что человек, созданный по образу Божьему, обладает нерушимым достоинством, ценностью и уникальностью, которые навеки подтвердило воплощение Христа.
Подобно проблеме личности, противоречие между физической и духовной любовью – достаточно распространенная тема в литературе – имеет повышенную значимость в христологических романах, о которых пойдет речь. В «Анне Карениной» эту тему заявляет Константин Дмитриевич Лёвин, когда объясняет Стиве (Степану Аркадьевичу) Облонскому, что два вида любви, которые определяет Платон в своем «Пире», – земная, плотская любовь в противовес небесной, духовной любви – «служат пробным камнем для людей» [Толстой ПСС, 18: 46]. Притом что реплика Лёвина безусловно важна для понимания романа, это всего лишь ранняя формулировка фундаментального различия между духом и телом, которое будет преобладать в мысли Толстого на протяжении следующей четверти века и достигнет кульминации в повторном провозглашении в «Воскресении», из которого явствует степень этого различия для Толстого.
Это же противопоставление видов любви (эроса и агапе) в «Идиоте» ставит в тупик князя Льва Николаевича Мышкина, который хочет, чтобы ему позволялось любить обоими способами, то есть и Аглаю Епанчину, и Настасью Филипповну, испытывая эрос к первой и агапе ко второй. Его соперник за руку и сердце Аглаи, Евгений Радомский, высмеивает это странное желание. Достоевский видит в мнимой несовместимости этих двух видов любви главное препятствие для нашей способности понимать Христа и любить так, как любит он. Собственно, размышление об этих двух видах любви служит темой важной дневниковой записи, сделанной Достоевским в апреле 1864 года в ожидании похорон его первой жены Маши. Семейная любовь и любовь между мужем и женой вступают в конфликт с агапе, что проповедовал и сам Христос[4]. «Семейство, то есть закон природы, – пишет Достоевский, – но все-таки ненормальное, эгоистическое в полном смысле состояние от человека <…>. В то же время человек по закону же природы, во имя окончательного идеала своей цели [т. е. христоподобной любви], должен беспрерывно отрицать его» [Достоевский ПСС, 20:176]. «Идиот», роман, который Достоевский начал писать тремя годами позже, представляет собой одну из попыток автора разрешить этот парадокс.
Притом что апофатизм, персонализм и контраст между эросом и агапе составляют основу всех четырех моих исследований предмета, я также обращаюсь к другим вопросам, таким как значение божественной любви в христологических формулировках этих писателей – вопрос, связанный с вопросом эроса / агапе, – а также проблемы и природа веры в их судьбе и в их время. В центре моего исследования – интригующий феномен двухвековой озабоченности русских писателей идеей Христа и возникающее в результате этой озабоченности переплетение религиозных и нравственных тем в их произведениях.
Следует сказать несколько слов о заглавии моей книги. В эпиграфе к данному предисловию старец Зосима из «Братьев Карамазовых» призывает нас «образ Христов хранить» [Достоевский ПСС, 14: 287]. «Образ» понимается здесь как подобие, воспроизведение, мысль или понятие. Кроме того, словом «образ» по-русски называют икону – от греческого гіксог (eikon), что само по себе означает «образ». Следовательно, говорить об «образе» Христа уже означает вызывать в памяти изображения Христа на русских православных иконах, со всеми сопутствующими культурными и богословскими ассоциациями. В соответствии с целями моего исследования понятие «образ Христа» будет в значительной степени пониматься как толкование, подобие или концепция Христа, не обязательно его визуальное изображение на иконах или в живописи. Хотя я и говорю о значении русских икон для православного понимания Иисуса и личности, вопрос о том, каким именно представал Иисус в русском изобразительном искусстве, – интересный и важный сам по себе – я оставляю другим исследователям, как прошлым, так и будущим[5]. На протяжении всей моей книги я рассматриваю главным образом литературные воплощения Христа, причем ограничиваюсь по преимуществу теми, что встречаются в прозе.
Использование имени Христос в заглавии и остальном тексте моей книги также требует пояснения. Христос (по-гречески Хркутос;) – это перевод древнееврейского ПЧЙПЭДр, Машиах, или «Мессия» – буквально «помазанный». Помазанным назывался тот, чью голову обливали маслом в знак божественного одобрения предстоявшей ему миссии. Помазанными бывали священники и иногда пророки, но это действие (помазание) и слово («помазанник») относились в первую очередь к царям. Таким образом, Иисус Христос – это Иисус-мессия или Иисус-царь. Так что использование слова «Христос» в отношении Иисуса может пониматься как подчеркивание его мессианских качеств. Собственно, с появлением историко-критической школы библеистики некоторые начали проводить различие между «Иисусом истории» и «Христом веры», чтобы было яснее, о ком идет речь: об иудейском проповеднике-человеке первого века или о Сыне Божием. Однако различие это не такое четкое, каким может показаться, поскольку Иисус – также очень символичное имя. Иисус происходит от греческого lesous (Ігрове;), что в свою очередь служит переводом еврейского Йешуа (также Йошуа, Иешуа и Иегошуа), что означает «Яхве спасает». Таким образом, независимо от того, назовем мы его Иисусом, Христом или Иисусом Христом, полностью избежать определенных теологических или христологических ассоциаций невозможно. Упоминая Иисуса в произведениях рассматриваемых русских авторов, я наравне использую оба наименования. Я поступаю так отчасти потому, что ни одно из имен не может быть полностью отделено от его богословских обертонов, а также исходя из того, что на протяжении веков слово «Христос» в повседневной речи стало чем-то вроде второго имени Иисуса. Я должен также упомянуть, что слово «христология» я использую в двояком смысле: как термин, обозначающий и изучение Христа, и богословское истолкование личности и миссии Христа.
И последнее методологическое замечание. Хотя мое исследование посвящено фигурам Христа, использование здесь этого термина очень специфично[6]. Фигуры Христа в моем анализе выполняют апофатическую функцию. Фигура Христа по определению не является Христом. Однако, не будучи Христом, она тем не менее указывает на него, хотя в моем исследовании это происходит в сугубо отрицательном плане. Как нелепый Мышкин в «Идиоте» Достоевского или полигамный Юрий Живаго в одноименном романе Пастернака, фигуры Христа, к которым я обращаюсь, обладают такими недостатками, которые ставят под вопрос их статус маркеров Христа или противоречат позитивным в остальном ассоциациям, связывающим персонажа с Иисусом. В то же время, однако, они воплощают узнаваемые черты или идеи Христа. Обращаясь к понятию библейской типологии, мы можем сказать, что эти персонажи служат типами Христа в том смысле, что их поведение тем или иным образом соответствует характеру или действиям Иисуса в Новом Завете. Цель моего исследования, однако, не в том, чтобы идентифицировать фигуры Христа в русской литературе или объяснить каждое упоминание Иисуса или связанный с ним художественный вымысел[7]. Скорее, я стремлюсь понять, почему крупнейшие русские писатели за последние двести с лишним лет, пытаясь изобразить Христа, предпочитали утверждать его с помощью стратегии отрицания или через слабые либо неудачливые фигуры Христа.
Структура книги прямолинейна. Я рассматриваю образ Христа у каждого из четырех авторов, дополняя каждый тематический раздел главами, проясняющими контекст – культурный, социальный, политический и богословский, – необходимый для понимания эволюции и форм восприятия Христа русской литературой. В главе 1 описывается различие между Иисусом истории и Христом веры, показывается растущий секуляризм русской культуры и общества XIX века, который я называю «веком неверия». Я прослеживаю рост секуляризма в жизни и творчестве крупнейших писателей того времени, в растущей популярности и влиятельности трудов исторической школы библейской критики и в возникновении радикального материализма. Я утверждаю, что, столкнувшись с этим секуляризмом, такие писатели, как Достоевский и Толстой, приняли квазиапофатический подход к вопросу веры как дискурсивную стратегию, которая позволила им отстаивать свои религиозные позиции по методу via negativa, в соответствии с тем, что Достоевский назвал «наш отрицательный век»[8]. Этот подход подробно разъясняется в последующих тематических главах.
Рассмотрению Достоевского и Толстого я посвящаю по две главы, поскольку их интерес к Иисусу Христу охватывает несколько десятилетий и выражен во множестве произведений. В главах 2 и 3 предлагается подробный анализ апофатической христологии Достоевского, истоки которой можно найти в парадоксальном кредо писателя из письма 1854 года, где он выражает желание «оставаться с Христом», даже если Христос окажется «вне истины», – это отрицательное утверждение веры, которое вновь появляется в романе «Бесы». В первой из глав о Достоевском я сравниваю романы «Бесы» и «Братья Карамазовы» как апофатический дискурс, подтверждающий, насколько трудно верить даже для приверженцев веры. Оба романа демонстрируют, что упражнение в апофатизме может одинаково легко привести и к неверию, и к вере. В главе 3, напротив, я утверждаю, что в одном из самых мрачных повествований о вере, романе «Идиот», Достоевский развертывает как апофатический прием комедию, раскрывая в поступках комической фигуры Христа, князя Мышкина, возможность веры даже перед лицом смерти и трагедии, которыми завершается роман. Исследование Достоевским «смешного человека» Мышкина – это упражнение в отрицательной христологии par excellence, где наша комическая фигура Христа представляет собой все то, чем Христос не является, утверждая тем самым то, чем Христос должен быть. Комизм – неотъемлемый прием в творчестве писателя – неожиданно становится в «Идиоте» средством для совершенно серьезного исследования природы и испытаний веры.
В основе уникальной христологии Толстого, как и у Достоевского, также лежит отрицательная формулировка, а именно отрицание божественных атрибутов Христа, – но, кроме того, и идея божественной любви, понимаемой в «Войне и мире» и «Анне Карениной» как способность любить своих ненавистников. Это определение божественной любви, впервые сформулированное в заповеди Христа из Нагорной проповеди, выдвигает на первый план ненависть как парадоксальное отрицательное средство измерения нашей способности к божественной любви. Эта до сих пор недостаточно исследованная концепция, лежащая в основе религиозных и философских исканий каждого из романов, представляет первостепенную важность для личного радикального представления их авторов о Христе. В главе 4 утверждается, что рассмотрение Толстым божественной любви как любви к врагам служит в этих романах решительным первым шагом к его собственному своеобразному пониманию Христа.
В следующей главе рассматривается крайняя степень апофатических упражнений Толстого: полное отрицание им божественных свойств Иисуса, вывод из впервые сформулированной в дневниковой записи 1855 года мысли об основании «религии Христа, но очищенной от веры и таинственности» [ПСС 47: 37]. Об этом начинании Толстой написал ряд работ, где утверждение Толстым небожественности Христа и акцент на разуме рассматриваются как новая форма христианской духовности. Единственную серьезную попытку драматически развить в художественной прозе принципы этого нового мировоззрения с его отрицательной христологией Толстой предпринял в последнем романе «Воскресение» – предмете тематического анализа данной главы. Центром социальной и христологической критики Толстого в этом романе оказывается его повышенный интерес к телесности. Поскольку плоть – источник столь многих зол в мире, Бог, воплотившийся в образе Иисуса Христа, не может быть приемлем. Но это ниспровержение плоти и использование его в христологических целях влекут за собой непредвиденные последствия, грозящие уничтожить толстовский проект радикального Христа, – результат, который я рассматриваю в своем анализе романа.
Глава 6 обрисовывает контекст двух тематических исследований писателей XX века. В этой главе я, в отличие от XIX века, рассматриваю советскую эпоху, насколько бы иронично это ни звучало, как век веры, результат движения от реализма к символизму в литературе и от материалистического мировоззрения секулярного столетия в сторону обновленного интереса к духовности в fin de siecle. Я обращаюсь, в частности, к двум символистским стихотворениям – «Христос воскрес» А. Белого и «Двенадцать» А. А. Блока, – которые вызывающим образом помещают Иисуса в контекст большевистской революции и подтверждают две важные истины: что русские радикалы издавна воспринимали Иисуса как своего рода отца-основателя социалистической идеологии и что революционное движение всегда носило псевдорелигиозный характер. По правде говоря, трудно представить себе людей, верующих более истово, чем строители нового советского порядка, в чьих глазах революция придала квазибожественный статус жизни, идеям и историческому значению Ленина и Сталина. Эти особенности советской общественной жизни, таким образом, подготовили почву для столетия, в котором вера как таковая поистине носилась в воздухе, несмотря на все старания искоренить религию. Я обращаюсь к провокационным описаниям Христа у ранних советских авторов и в заключение помещаю Булгакова и Пастернака в контекст советского века веры – времени, когда атеизм фактически обеспечил пространство отрицания для обновления веры.
В следующей главе я анализирую первый пример романа о вере, рожденного в отрицательном пространстве насаждаемого государством атеизма, – «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, где радикально остраненное изображение Иисуса служит самым разительным примером отрицательной христологии в советской литературе. В частности, я пытаюсь показать, как Булгаков заново открывает Христа, противопоставляя категорически небожественного Иешуа из вставного романа Мастера безусловно сверхъестественному Иешуа, который является в атеистической России Сталина, чтобы даровать мир Мастеру и Маргарите и простить Понтия Пилата. В диалектическом противоречии между квазибожественным и небожественным Иешуа Булгаков предлагает нам via negativa к различению Христа и Божества, путь, осложненный неопределенностью самого текста романа, парадоксы и дизъюнкции которого обращают в прах попытки прийти к окончательным выводам, и освещенный сказочной историей любви главных героев, где нам обещают показать, как выглядит «настоящая, верная, вечная любовь» – и действительно показывают, но не без подвоха.
Б. Л. Пастернак, так же как и Булгаков, раскрывает Христа через текст в тексте – это стихи героя романа Юрия Живаго, которые появляются в последней главе книги и подкрепляют статус Живаго как сомнительной фигуры Христа. Как и стихи, в которых сочетаются эротические, метеорологические и христологические темы, Юрий воплощает собой поразительное противоречие – образ Христа, который спит с тремя женщинами и зачинает пятерых детей. В этой главе я ищу объяснение указанному противоречию в последовательной персоналистской философии Юрия (его кажущейся неспособности не любить тех, кто рядом с ним) и в том, как этот персонализм подпитывает ярко выраженную в романе оппозицию эрос / агапе (представленную тремя любовными связями Живаго), одновременно отрицающую возможность прочтения Юрия как фигуры Христа и раскрывающую ее. Это апофатическое действие, которое в конечном счете заново вписывает библейского Христа в советский век веры.
Завершают книгу некоторые наблюдения по поводу образа Христа в произведениях, опубликованных после смерти Сталина и в период упадка Советского Союза. В частности, нарратив Страстной недели, столь заметный в романах Булгакова и Пастернака, продолжал резонировать и воспроизводиться в таких произведениях, как «Москва – Петушки» В. В. Ерофеева (1969, возможно, роман собственно о Христе), «Факультет ненужных вещей» Ю. О. Домбровского (1978) и «Плаха» Ч. Т. Айтматова (1986). Я кратко анализирую эти произведения в контексте четырех моих тематических исследований, рассматриваю современный литературный интерес к Христу и христианским темам и высказываю несколько заключительных замечаний о значении Христа в русской литературе.
Образ Христа в русской литературе – богатая и пока еще недостаточно изученная тема, очень важная и интересная[9]. Я надеюсь, что, диалогически связав друг с другом образы Христа у перечисленных авторов и выявив сходства и различия в их поисках Иисуса истории или Христа веры, мы сможем лучше понять, как в русской литературе меняется облик того, кто «вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евр 13: 8). Когда Иисус спрашивал учеников: «За кого почитают Меня люди?», ответы были сами разными: «Одни отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же – за Илию; а иные – за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос» (Мк 8: 27–29). Писатели, рассмотренные в этой книге, также задавались этим вопросом. Ответы, которые они на него давали, и служат предметом данного исследования.
Глава 1
Век неверия. Христос в русской литературе XIX века
Поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.
В. Г. Белинский в цитате Ф. М. Достоевского, «Старые люди» («Дневник писателя»)Вера и неверие в российском обществе
Называя XIX век в России «веком неверия», я вовсе не утверждаю, что между 1800 и 1900 годами на страну обрушился такой мощный секуляризм, что все перестали верить в Бога. Напротив, православие в России жило и процветало: к 1914 году в стране насчитывалось 55 173 церкви и 29 593 часовни [Holtrop, Slechte 2007:2], а также 550 монастырей, 112 629 священников и дьяконов и 95 259 монахов и монахинь. Россия была настоящей христианской страной, которую объединяла единая вера, в которой календарь церковных праздников и постов регулировал повседневную жизнь миллионов крестьян, купцов и дворян. В крестьянских избах и барских домах почетное место в красных углах занимали иконы, а православные обычаи и верования составляли общую культурную ткань, окутывавшую все слои русского общества. Но в то же время в обществе, особенно среди образованных слоев, росло убеждение, что религиозная вера – это некий культурный атавизм, место которого в человеческом обществе давно занято науками, а главным руководящим принципом стал рационализм. Это, разумеется, было кульминационной точкой на пути к обмирщению – пути, начавшемся с вестернизации России Петром Великим и продолженном сторонницей идей Просвещения Екатериной II, так что основы неверия в России, по меньшей мере в ее интеллектуальной жизни, были заложены еще в XVII–XVIII веках. Но в XIX веке в русскую культуру особенно активно проникали различные формы материализма, породившие агрессивный секуляризм, который стал характерной чертой прогрессивной интеллигенции и достиг апогея в революции, положившей начало первому в мире официально атеистическому государству. Таким образом, XIX век больше заслуживает статуса «века неверия», чем предшествовавшие ему столетия.
Одним из самых красноречивых поборников светского мировоззрения в России XIX века был А. И. Герцен, ярый противник церкви, считавший, что религия, как и другие институты царского общества, угрожает свободе личности. При этом Герцен утверждал, что в жизни людей образованного класса религия утратила всякое значение. В «Былом и думах» он отмечал, что «нигде религия не играет такой скромной роли в деле воспитания, как в России» [Герцен СС, 8: 53–54]. Здесь, как напоминает нам Дж. Франк, Герцен «говорит о воспитании детей помещиков и аристократов, несколько поколений предков которых воспитывались на культуре французского Просвещения и для которых Вольтер был кем-то вроде святого покровителя» [Frank 1976:42]. Нападки других русских интеллектуалов на религию были гораздо радикальнее. Так, друг и соратник Герцена, социалист-визионер В. Г. Белинский в своем знаменитом письме Н. В. Гоголю 1847 года утверждает, что крестьян тоже едва ли можно назвать настоящими христианами: «А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится – молиться, не годится – горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности» [Белинский 1953: 246].
Белинский, конечно, ради красного словца преувеличивает атеизм простого народа, но он прав в том, что православие далеко не всегда правильно понималось и практиковалось в Российской империи. Белинский на самом деле поднимает вопрос о том, что православие можно скорее считать не духовным, а культурным явлением в русской жизни, то есть религией, последователи которой соблюдают обрядную сторону – постятся, причащаются, посещают службы и т. п., – не понимая ее смысла и не чувствуя при этом особой веры. Этот вид православного христианства в лучшем случае сводится к набору общепринятых этических норм и ритуальных жестов. Именно такое впечатление создает и рассказ А. П. Чехова «Мужики» (1897), который произвел сенсацию своим изображением невежества, грязи и пьянства, царящих в деревне, хотя опубликован был в цензурированном виде (Московская цензурная комиссия сочла, что произведение написано «слишком мрачными красками» и слишком явно намекает, что положение крестьян «в настоящее время хуже, чем то, в каком они находились в крепостное время» [Simmons 1962: 392]). Белинский узнал бы собственные замечания о религиозности крестьян в следующем отрывке из повести:
Марья и Фекла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. Детей не учили молиться, ничего не говорили им о боге, не внушали никаких правил и только запрещали в пост есть скоромное. В прочих семьях было почти то же: мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили священное писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала евангелие, ее уважали и все говорили ей и Саше «вы» [Чехов ПСС, 9: 306].
Герцен в «Былом и думах» описывает подобную ситуацию в собственной семье в конце 1820-х, когда ему было пятнадцать. Он пишет, что его отец, богатый дворянин из старинной русской семьи, «немного верил, по привычке, из приличия и на всякий случай», но «не исполнял никаких церковных постановлений» и принимал у себя дома приходского священника «больше из светско-правительственных целей, нежели из богобоязненных» [Герцен СС, 8: 54]. Юному Герцену внушали, «что надобно исполнять обряды той религии, в которой родился, не вдаваясь, впрочем, в излишнюю набожность, которая идет старым женщинам, а мужчинам неприлична» (Там же). Он должен был соблюдать предписания Великого поста, «побаивался исповеди», а церковная обстановка «поражала» и «пугала» его. Причастие вызывало у него «истинный страх», но этот страх не был «религиозным чувством» (Там же). После заутрени на Святой неделе он объедался «красных яиц, пасхи и кулича», а потом «целый год больше не думал о религии» (Там же: 55). Но, как и крестьяне в повести Чехова, Герцен испытывал «искреннее и глубокое уважение» (Там же) к Евангелию:
В первой молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию и насмешку, но не помню, чтоб когда-нибудь я взял в руки евангелие с холодным чувством, это меня проводило через всю жизнь; во все возрасты, при разных событиях я возвращался к чтению евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу (Там же).

