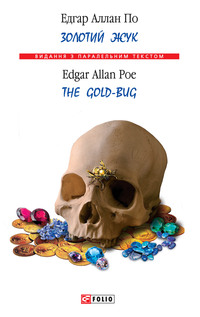
Золотой жук = The Gold-bug
Пожав Вальдемару руку, я отозвал этих господ в сторонку и подробно расспросил их о состоянии больного. Левое легкое уже восемнадцать месяцев находилось в состоянии полного окостенения и совсем перестало функционировать; верхняя часть правого тоже почти или вполне окостенела, а нижняя представляла сплошную массу гниющих туберкул. В одном месте она приросла к ребрам; можно было констатировать также значительные прободения. Эти изменения в правом легком произошли сравнительно недавно. Окостенение развивалось стремительно: еще месяц тому ни малейших признаков его не было заметно, а сращение с ребрами произошло в течение последних трех дней. Независимо от чахотки пациент обнаруживал признаки аневризмы аорты, но точный диагноз в этом отношении нельзя было поставить вследствие процесса окостенения. По мнению обоих врачей, мистер Вальдемар должен был умереть завтра (в воскресенье) в полночь. Сегодня была суббота, семь часов вечера.
Оставляя больного, чтобы поговорить со мной, врачи простились с ним, так как не рассчитывали вернуться. Я, однако, убедил их зайти завтра в десять часов вечера.
Когда они ушли, я заговорил с мистером Вальдемаром о его близкой кончине и о предполагаемом опыте. Он по-прежнему соглашался на опыт, даже принимал его близко к сердцу, уговаривая меня начать немедленно. При нем находились сиделка и служитель, но я затруднялся начинать подобный опыт, не имея под рукой более надежных свидетелей. Итак, я решил подождать и приступил к опыту только на следующий день, в восемь часов вечера, когда к больному зашел один мой знакомый студент-медик, мистер Л. Я хотел было дождаться врачей, но настоятельные просьбы господина Вальдемара и собственное убеждение, что нельзя терять ни минуты, заставили меня решиться.
Господин Л. был так любезен, что согласился вести протокол опыта: его заметки я и публикую теперь, местами дословно, местами в сокращенном изложении.
Было без пяти минут восемь, когда я взял пациента за руку и попросил его заявить господину Л. как можно яснее, желает ли он (господин Вальдемар) подвергнуться месмерическому опыту в своем теперешнем состоянии.
Он отвечал слабым, но совершенно четким голосом: «Да, я желаю подвергнуться месмеризации, – и тотчас прибавил. – Боюсь, что вы опоздаете с опытом».
Между тем я начал делать пассы, те именно, которые в прежних моих опытах всегда действовали на него. Боковое движение руки вдоль его лба подействовало сразу, но только в первый момент; никаких дальнейших результатов не получилось, хотя я напрягал все свои силы. В десять часов явились доктора Д. и Ф. Я в немногих словах объяснил им свой план и, так как они ничего не имели против, говоря, что больной уже кончается, продолжил пассы, переменив боковое движение руки на продольное и уставившись в правый глаз больного.
Пульс его был теперь совсем незаметен, дыхание хриплое, с промежутками в полминуты.
Это состояние оставалось почти неизменным в течение четверти часа. Затем глубокий вздох вырвался из груди умирающего, хрипы прекратились, но дыхание еще было заметно с такими же промежутками. Конечности пациента похолодели как лед.
Было без пяти минут одиннадцать, когда я заметил несомненные признаки месмерического влияния. Стеклянный взгляд сменился особенным выражением внутреннего созерцания, которое я замечал только у сомнамбул и насчет которого невозможно ошибиться. Несколько быстрых боковых пассов вызвали дрожание век, как у засыпающего, спустя минуту глаза совсем закрылись. Я, однако, не удовлетворился этим, а продолжил свои манипуляции, напрягая все силы, пока не закоченели члены больного, которым я придал положение, казавшееся мне самым удобным. Ноги были вытянуты во всю длину, руки уложены вдоль тела, на некотором расстоянии от него; голова немного приподнята.
Когда я закончил, была уже полночь. Я попросил врачей освидетельствовать Вальдемара. Они объявили, что больной находится в глубоком месмерическом трансе. Любопытство их было возбуждено. Доктор Д. решил остаться при больном на всю ночь, доктор Ф. ушел, но обещал зайти рано утром. Остались мистер Л., сиделка и служитель.
Мы оставили Вальдемара в покое до трех часов утра, когда я подошел к нему и убедился, что состояние больного ничуть не изменилось после ухода доктора Ф. Вальдемар лежал в той же позе; пульс был незаметен; дыхание очень слабое, его можно было заметить, только прикладывая зеркало к губам, члены окоченевшие, холодные, как мрамор. Но смерть, очевидно, еще не наступила.
Подойдя к больному, я попытался заставить его правую руку двигаться по разным направлениям вслед за моей рукой. Я и раньше проводил этот опыт, но всегда безуспешно, а теперь и подавно не рассчитывал на успех. Но, к крайнему моему удивлению, рука больного исполняла вслед за моей целый ряд движений, правда, медленно, но послушно. Тогда я решился заговорить с пациентом.
– Господин Вальдемар, – спросил я, – вы спите?
Он не отвечал, но я заметил, что губы его задрожали, и повторил вопрос несколько раз. После третьего раза легкая дрожь пробежала по его телу, веки приподнялись так, что можно было разглядеть белую линию глазного яблока, губы тихонько зашевелились и произнесли чуть слышным шепотом:
– Да, теперь заснул. Не будите меня! Оставьте умереть в этом состоянии.
Я пощупал конечности, они, как и раньше, казались окоченевшими. Правая рука по-прежнему следовала за движениями моей руки. Я снова спросил:
– Вы все еще чувствуете боль в груди, господин Вальдемар?
На этот раз ответ последовал немедленно, но еще более слабым голосом:
– Никакой боли, я умираю.
Я не хотел больше тревожить его и оставил в покое до прихода доктора Ф., который явился на рассвете и был очень удивлен, застав пациента еще в живых. Пощупав ему пульс и приложив к губам зеркало, он попросил меня предложить больному какой-нибудь вопрос. Я послушался и спросил:
– Господин Вальдемар, вы все еще спите?
Как и раньше, прошло несколько минут, пока умирающий ответил. Казалось, он собирался с силами. Только когда я повторил вопрос в четвертый раз, последовал почти неслышный ответ:
– Все еще сплю – умираю.
Врачи находили нужным – вернее, желали – оставить Вальдемара в этом состоянии, по-видимому спокойном, до самой смерти, которая должна была наступить через несколько минут. Я, однако, решился поговорить с ним еще и повторил прежний вопрос.
Пока я говорил, состояние больного резко изменилось. Веки медленно приподнялись, глаза закрылись, кожа помертвела, побелев как бумага; характерные чахоточные пятна, резко выделявшиеся на щеках, внезапно погасли. Я употребляю это выражение, потому что они исчезли мгновенно, как гаснет свечка, если на нее дунуть. В то же время верхняя губа приподнялась над зубами, нижняя отвисла, и рот широко открылся, обнаружив распухший, почерневший язык. Кажется, нам было не привыкать к покойникам, тем не менее при виде этого отвратительного и ужасного зрелища все бросились прочь от кровати.
Теперь я достиг такого пункта в моем рассказе, который, чувствую, вызовет недоверие читателя. Но мне остается только спокойно продолжать.
Тело господина Вальдемара не обнаруживало ни малейших признаков жизни; и мы уже хотели поручить его попечению сиделки и служителя, как вдруг заметили, что язык покойника дрожит. Это продолжалось с минуту. Затем из разинутых, неподвижных челюстей раздался голос… но всякая попытка описать его была бы безумием. Есть два-три эпитета, которые подходят сюда отчасти: голос был хриплый, глухой, разбитый, но в целом этот ужасный звук не поддается описанию по той простой причине, что ухо человеческое еще никогда не слыхало подобных звуков. Были, однако, в нем две особенности, которые я считал и считаю наиболее характерными, так как они могут дать некоторое предоставление о его нездешнем характере. Во-первых, он достигал наших – по крайней мере моих – ушей словно издали или из какой-нибудь глубокой подземной пещеры. Во-вторых (не знаю, понятно ли будет это сравнение), он действовал на мой слух, как прикосновение какого-нибудь студенистого липкого тела к коже.
Я употребляю выражения «звук» и «голос». Я хочу сказать этим, что звук был ясно – даже удивительно отчетливо – членораздельный. Господин Вальдемар говорил, очевидно отвечая на вопрос, который я только что задал ему. Если помнит читатель, я спрашивал, спит ли он еще. Теперь он ответил:
– Да… нет… я спал… а теперь… теперь… я умер.
Никто из присутствующих даже не пытался преодолеть чувство невыразимого, пронизывающего ужаса, овладевшего нами при этих словах. Л. (студент) лишился чувств. Служитель и сиделка бросились вон из комнаты.
Свои ощущения я и не пытаюсь передать. Битый час мы возились – молча, без единого слова, – стараясь привести в чувство господина Л. Когда он пришел в себя, мы снова обратились к господину Вальдемару.
Тело оставалось совершенно в том же виде, как я его описывал, с той лишь разницей, что зеркало не обнаруживало признаков дыхания. Попытка пустить кровь из руки осталась безуспешной. Отмечу также, что рука его не повиновалась больше моей воле. Я тщетно старался заставить ее следовать за движениями моей руки.
Единственным признаком месмерического влияния было дрожание языка, замечавшееся всякий раз, когда я обращался к господину Вальдемару с вопросом. По-видимому, он пытался, но не в силах был ответить. Вопросы, предлагаемые другими лицами, видимо, не производили на него никакого впечатления, хотя я пытался поставить каждого из присутствующих в месмерическое отношение с ним. Теперь, кажется, я сообщил все, что можно было сказать в эту минуту о состоянии Вальдемара. Мы нашли новую сиделку (так как старая ни за что не хотела возвращаться), и в десять часов я ушел вместе с врачами и господином Л.
После обеда мы вернулись к пациенту. Он оставался все в том же положении. Мы стали обсуждать, стоит ли его будить, но скоро согласились, что это совершенно лишнее. Ясно было, что смерть (или то, что обыкновенно называют смертью) остановлена месмерическим процессом. Разбудив господина Вальдемара, мы только вызвали бы мгновенное или по крайней мере быстрое разрушение его тела. С этого дня до прошлой недели – в течение семи месяцев – мы ежедневно навещали господина Вальдемара, иногда в сопровождении других врачей или просто знакомых. Все это время состояние пациента оставалось таким же, как я его описал. Сиделка постоянно находилась при нем.
В пятницу на прошлой неделе мы решились наконец разбудить его – по крайней мере сделать попытку. Вот эта-то злополучная (быть может) попытка дала повод таким преувеличенным толкам, такому, смею выразиться, стихийному возбуждению толпы.
Для пробуждения господина Вальдемара я прибегнул к обычным пассам. Сначала они не возымели действия. Первым признаком оживления было опускание радужной оболочки, которое сопровождалось обильным выделением отвратительного зловонного гноя (из-под век).
Мне посоветовали испытать силу месмерического влияния над рукой пациента, как я делал раньше. Однако попытка не удалась. Тогда доктор Ф. попросил меня задать пациенту вопрос. Я послушался и спросил:
– Господин Вальдемар, как вы себя чувствуете? Не нужно ли вам чего?
На мгновение чахоточные пятна снова выступили на щеках, язык дрогнул и высунулся изо рта (хотя челюсти и губы оставались по-прежнему неподвижными), и тот же ужасный голос прохрипел:
– Ради Бога!.. скорее!.. скорее!.. усыпите меня… или… скорее!.. разбудите!.. скорее!.. говорю вам, что я умер!
Потрясенный, я не знал, что делать. В первую минуту хотел снова усыпить его, но, потерпев неудачу, принялся снова будить. Это удалось – по крайней мере, я сейчас увидел, что успех будет полный, и уверен, что все присутствующие с минуты на минуту ожидали пробуждения.
Но могла ли хоть одна живая душа предвидеть то, что случилось?
Пока я торопливо производил пассы, а восклицания «умер! умер!» буквально срывались с языка страдальца, все его тело на моих глазах в какую-то минуту съежилось, расползлось, буквально сгнило под моими руками. На постели перед глазами всех присутствующих оказалась отвратительная, полужидкая гнойная масса.
Ms. found in a bottle[3]
«Qui n’a plus qu’un moment à vivre N’a plus rien à dissimuler.»
Quinault, Atys.Of my country and of my family I have little to say. Ill usage and length of years have driven me from the one, and estranged me from the other. Hereditary wealth afforded me an education of no common order, and a contemplative turn of mind enabled me to methodise the stories which early study diligently garnered up. Beyond all things, the works of the German moralists gave me a great delight; not from my ill-advised admiration of their eloquent madness, but from the ease with which my habits of rigid thought enabled me to detect their falsities. I have often been reproached with the aridity of my genius; a deficiency of imagination has been imputed to me as a crime; and the Pyrrhonism of my opinions has at all times rendered me notorious. Indeed, a strong relish for physical philosophy has, I fear, tinctured my mind with a very common error of this age – I mean the habit of referring occurrences, even the least susceptible of such reference, to the principles of that science. Upon the whole, no person could be less liable than myself to be led away from the severe precincts of truth by the ignes fatui of superstition. I have thought proper to premise thus much, lest the incredible tale I have to tell should be considered rather the raving of a crude imagination, than the positive experience of a mind to which the reveries of fancy have been a dead letter and a nullity.
After many years spent in foreign travel, I sailed in the year 18 —, from the port of Batavia, in the rich and populous island of Java, on a voyage to the Archipelago of the Sunda Islands. I went as passenger – having no other inducement than a kind of nervous restlessness which haunted me as a fiend.
Our vessel was a beautiful ship of about four hundred tons, copper-fastened, and built at Bombay of Malabar teak. She was freighted with cotton-wool and oil, from the Lachadive Islands. We had also on board coir, jaggeree, ghee, cocoa-nuts, and a few cases of opium. The stowage was clumsily done, and the vessel consequently crank.
We got under way with a mere breath of wind, and for many days stood along the eastern coast of Java, without any other incident to beguile the monotony of our course than the occasional meeting with some of the small grabs of the Archipelago to which we were bound.
One evening, leaning over the taffrail, I observed a very singular isolated cloud, to the N.W. It was remarkable, as well for its colour, as from its being the first we had seen since our departure from Batavia. I watched it attentively until sunset, when it spread all at once to the eastward and westward, girting in the horizon with a narrow strip of vapour, and looking like a long line of low beach. My notice was soon afterwards attracted by the dusky-red appearance of the moon, and the peculiar character of the sea. The latter was undergoing a rapid change, and the water seemed more than usually transparent. Although I could distinctly see the bottom, yet, heaving the lead, I found the ship in fifteen fathoms. The air now became intolerably hot, and was loaded with spiral exhalations similar to those arising from heated iron. As night came on, every breath of wind died away, and a more entire calm it is impossible to conceive. The flame of a candle burned upon the poop without the least perceptible motion, and a long hair, held between the finger and thumb, hung without the possibility of detecting a vibration. However, as the captain said he could perceive no indication of danger, and as we were drifting in bodily to shore, he ordered the sails to be furled, and the anchor let go. No watch was set, and the crew, consisting principally of Malays, stretched themselves deliberately upon deck. I went below – not without a full presentiment of evil. Indeed, every appearance warranted me in apprehending a simoom. I told the captain my fears; but he paid no attention to what I said, and left me without deigning to give a reply. My uneasiness, however, prevented me from sleeping, and about midnight I went upon deck. As I placed my foot upon the upper step of the companion-ladder, I was startled by a loud, humming noise, like that occasioned by the rapid revolution of a mill-wheel, and before I could ascertain its meaning, I found the ship quivering to its centre. In the next instant, a wilderness of foam hurled us upon our beam-ends, and, rushing over us fore and aft, swept the entire decks from stem to stern.
The extreme fury of the blast proved, in a great measure, the salvation of the ship. Although completely water-logged, yet, as her masts had gone by the board, she rose, after a minute, heavily from the sea, and, staggering awhile beneath the immense pressure of the tempest, finally righted.
By what miracle I escaped destruction, it is impossible to say. Stunned by the shock of the water, I found myself, upon recovery, jammed in between the stern-post and rudder. With great difficulty I gained my feet, and looking dizzily around, was at first struck with the idea of our being among breakers; so terrific, beyond the wildest imagination, was the whirlpool of mountainous and foaming ocean within which we were engulfed. After a while, I heard the voice of an old Swede, who had shipped with us at the moment of leaving port. I hallooed to him with all my strength, and presently he came reeling aft. We soon discovered that we were the sole survivors of the accident. All on deck, with the exception of ourselves, had been swept overboard; the captain and mates must have perished as they slept, for the cabins were deluged with water. Without assistance, we could expect to do little for the security of the ship, and our exertions were at first paralysed by the momentary expectation of going down. Our cable had, of course, parted like pack-thread, at the first breath of the hurricane, or we should have been instantaneously overwhelmed. We scudded with frightful velocity before the sea, and the water made clear breaches over us. The framework of our stern was shattered excessively, and, in almost every respect, we had received considerable injury; but to our extreme joy we found the pumps unchoked, and that we had made no great shifting of our ballast. The main fury of the blast had already blown over, and we apprehended little danger from the violence of the wind; but we looked forward to its total cessation with dismay, well believing, that in our shattered condition, we should inevitably perish in the tremendous swell which would ensue. But this very just apprehension seemed by no means likely to be soon verified. For five entire days and nights – during which our only subsistence was a small quantity of jaggeree, procured with great difficulty from the forecastle – the hulk flew at a rate defying computation, before rapidly succeeding flaws of wind, which without equalling the first violence of the simoom, were still more terrific than any tempest I had before encountered. Our course for the first four days was, with trifling variations, S.E. and by S.; and we must have run down the coast of New Holland. On the fifth day the cold became extreme, although the wind had hauled round a point more to the northward. The sun arose with a sickly yellow lustre, and clambered a very few degrees above the horizon – emitting no decisive light. There were no clouds apparent, yet the wind was upon the increase, and blew with a fitful and unsteady fury. About noon, as nearly as we could guess, our attention was again arrested by the appearance of the sun. It gave out no light, properly so called, but a dull and sullen glow without reflection, as if all its rays were polarised. Just before sinking within the turgid sea, its central fires suddenly went out, as if hurriedly extinguished by some unaccountable power. It was a dim, silver-like rim, alone, as it rushed down the unfathomable ocean.
We waited in vain for the arrival of the sixth day – that day to me has not arrived – to the Swede, never did arrive. Thenceforward we were enshrouded in pitchy darkness, so that we could not have seen an object at twenty paces from the ship. Eternal night continued to envelop us, all unrelieved by the phosphoric sea-brilliancy to which we had been accustomed in the tropics. We observed, too, that, although the tempest continued to rage with unabated violence, there was no longer to be discovered the usual appearance of surf, or foam, which had hitherto attended us. All around were horror, and thick gloom, and a black sweltering desert of ebony. Superstitious terror crept by degrees into the spirit of the old Swede, and my own soul was wrapped up in silent wonder. We neglected all care of the ship, as worse than useless, and securing ourselves, as well as possible, to the stump of the mizzen-mast, looked out bitterly into the world of ocean. We had no means of calculating time, nor could we form any guess of our situation. We were, however, well aware of having made farther to the southward than any previous navigators, and felt great amazement at not meeting with the usual impediments of ice. In the meantime every moment threatened to be our last – every mountainous billow hurried to overwhelm us. The swell surpassed anything I had imagined possible, and that we were not instantly buried is a miracle. My companion spoke of the lightness of our cargo, and reminded me of the excellent qualities of our ship; but I could not help feeling the utter hopelessness of hope itself, and prepared myself gloomily for that death which I thought nothing could defer beyond an hour, as with every knot of way the ship made, the swelling of the black stupendous seas became more dismally appalling. At times we gasped for breath at an elevation beyond the albatross – at times became dizzy with the velocity of our descent into some watery hell, where the air grew stagnant, and no sound disturbed the slumbers of the kraken.
We were at the bottom of one of these abysses, when a quick scream from my companion broke fearfully upon the night. «See! see!» cried he, shrieking in my ears, «Almighty God! see! see!» As he spoke, I became aware of a dull, sullen glare of red light which streamed down the sides of the vast chasm where we lay, and threw a fitful brilliancy upon our deck. Casting my eyes upwards, I beheld a spectacle which froze the current of my blood. At a terrific height directly above us, and upon the very verge of the precipitous descent, hovered a gigantic ship, of perhaps four thousand tons. Although upreared upon the summit of a wave more than a hundred times her own altitude, her apparent size still exceeded that of any ship of the line or East Indiaman in existence. Her huge hull was of a deep dingy black, unrelieved by any of the customary carvings of a ship. A single row of brass cannon protruded from her open ports, and dashed from their polished surfaces the fires of innumerable battle-lanterns which swung to and fro about her rigging. But what mainly inspired us with horror and astonishment, was that she bore up under a press of sail in the very teeth of that supernatural sea, and of that ungovernable hurricane. When we first discovered her, her bows were alone to be seen, as she rose slowly from the dim and horrible gulf beyond her. For a moment of intense terror she paused upon the giddy pinnacle, as if in contemplation of her own sublimity, then trembled and tottered, and – came down.
At this instant, I know not what sudden self-possession came over my spirit. Staggering as far aft as I could, I awaited fearlessly the ruin that was to overwhelm. Our own vessel was at length ceasing from her struggles, and sinking with her head to the sea. The shock of the descending mass struck her, consequently, in that portion of her frame which was nearly under water, and the inevitable result was to hurl me, with irresistible violence, upon the rigging of the stranger.
As I fell, the ship hove in stays, and went about; and to the confusion ensuing I attributed my escape from the notice of the crew. With little difficulty I made my way, unperceived, to the main hatchway, which was partially open, and soon found an opportunity of secreting myself in the hold. Why I did so I can hardly tell. An indefinite sense of awe, which at first sight of the navigators of the ship had taken hold of my mind, was perhaps the principle of my concealment. I was unwilling to trust myself with a race of people who had offered to the cursory glance I had taken, so many points of vague novelty, doubt, and apprehension. I therefore thought proper to contrive a hiding-place in the hold. This I did by removing a small portion of the shifting-boards, in such a manner as to afford me a convenient retreat between the huge timbers of the ship.

