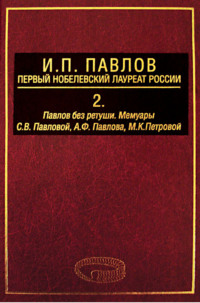
И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 2. Павлов без ретуши
Хочется потолковать именно по поводу разных романов. Я уже не раз говорил тебе, что у нас есть романы, а нет критиков, массы психологических материалов в романах пропадают даром, жалко. Кто знает, может, в каком из наших молодых зародится и будущий желанный критик. Что будет интересного, буду описывать моей дорогой Саррушке…
Среда, 9-го, 9 ч. утра. Осень 1880 г.
Целую тебя много, много за твое последнее письмо. Только ты не балуешь ли меня, дорогая Сарка, когда так беспокоишься по моей хандре? Мне думается, что иногда не мешает нашего брата просто постегать, побранить на этот счет. «Побольше бы делал, меньше бы, мол, времени было для всяких бесполезных завываний». Право, всмотрись; иногда такая речь и есть самая уместная в ответ на наши распинания.
Твое воображение недаром отказывалось воспроизводить мои физиологические труды, потому что их до сих пор еще и не было. Вчера был первый день, когда можно было работать, но утро было занято хождением по консисториям с мамашиным пачпортом; с вечера же начинать не хотелось. Рабочий сезон открывается ныне; после письма иду в кабинет и начинаю резню. Да занятия в кабинете не идут, как и книжные занятия дома. Больше говорим – и только изредка почитываем.
Вчера после обеда читали в «Вестнике Европы» рассказы Золя55. Хороши! Заставили кое о чем подумать. От него по обыкновению беспутная мысль около чего-чего не слонялась. Ходил по саду. Какая чудная погода! Ходил и думал, или мечтал, как хочешь. Пожалуй, и передать ничего другого нет.
Вот, мол, милая Сарра скоро уедет на дело. Оба при деле. Оба стараемся лучше, справедливее устроиться как по отношению к другим, так и к себе. Всячески утилизируем время, смотрим за своей мыслью, сердцем. Трудимся – и сообщаем все это друг другу, и успех одного подзадоривает другого, толкает его, дает ему энергию, несмотря на разделяющее нас расстояние. Выходит то, что всегда пленяло меня в удавшемся приятельстве. Я не боюсь, чтобы отстал от моей Саррочки, как ручаюсь и за нее, и мне делается хорошо, весело, хоть и придется не видеться так долго.
Дальше. Радовался, что ты будешь в деревне, среди рабочих, трудящихся. Я думал вот о чем. Мы все – и ты, и я, и вся учащаяся братия – все же из привилегированного, не работающего класса. Мы живем без труда – это наша общественная характеристика – и мы переносим это в нашу учебную жизнь. Посмотри на всех учащихся: разве можно сказать, что они работают? Забавляются по-барски – вот что верно. Когда мы шляемся да разговоры разводим, разве нас мучит, преследует и собственное сознание, и презрение других, как случается со всяким рабочим, сбившимся с пути? Среди нас не живет идея трудовой жизни, она осуществлена только тем, куда идешь ты – и в этом твоя теперешняя выгода.
Это, конечно, между прочим. Я думаю об этом именно потому, что к вечеру поджидаю одну акушерку, сестру нашего хорошего товарища по семинарии и университету. Ей уже, вероятно, лет 25. До последнего времени она жила в деревне при отце и хозяйничала, как хозяйка во всякой крестьянской семье, т. е. всегда за делом. Ей скучно, совестно быть без дела. Ту же привычку к делу, ту же добросовестность в отношении времени приняла в Питере. Она – редкость между нами. Об ней-то и можно только сказать, что она работает и учась.
Деревня – школа труда, о которой в городах мы не имеем понятия.
Понедельник, 8 сентября 1880 г., 11 часов утра
…Теперь, кажется, уже пошло на лад и у тебя, и у нас. Рад и очень, что ты пристроишься в своем уезде. Что ни говори, а речь: «Пойду в самую глушь, вдаль от света, выпью чашу всяких неприятностей и нового тяжелого труда до дна» и т. д. – была хоть и понятна в своем хорошем основании, все же легкомысленна или по крайней мере неосторожна. Дорогое и трудное дело надо делать исподволь и осмотрительно, без лишней храбрости. Это я говорил как-то раньше – и сейчас повторяю с убеждением, что это правда, а не трусливая узкая практичность.
Я подымаюсь, милая Сарка, хоть и не особенно быстро, но, кажется, верно. И раньше я замечал, что постановка жизни на желаемом уровне всегда у меня начиналась с правильного и систематического труда. Бодрость физическая являлась необходимым условием умственной и правильной энергии. То же делается и теперь. Начал уже заниматься регулярно гимнастикой. Что за богатое самоощущение, настроение получается во время и после нее. Глубоко убежден, что с нее возьмется, разойдется и все: пойдут и другие занятия.
Работать в лаборатории буду только завтра, что зависело не от меня: то убирали лабораторию, то праздники. Помимо всего, волей-неволей придется работать хорошо. Мы, врачи, оставленные при академии, взяли ученый подряд, обязались через месяц представить работы, которые войдут в юбилейный том, преподносимый одному из престарелых деятелей академии.
Вчера был у меня Юрий Дмитриевич с братом и товарищем. Часа два отчаянно спорили по поводу «Дневника» Достоевского. Твой Ванька совсем обратился в народника, с азартом защищал «хождение в народ», рекомендуя его молодому поколению, хотя и с другими намерениями, чем как это делала радикальная партия.
После спора читали «Сказки Кота-Мурлыки»56. Не знаю, Сарка! Может быть, я был уставший после спора и мало внимателен или это так и верно, только не понравились они мне. И в них я увидел того же Вагнера, легкомысленного, фразистого, у которого слов и намерений куда больше, чем мыслей и дела. Читали сперва маленькую штучку, «Альзамах», что ли какой? Дело идет о бессилии филантропии. Совсем уж не новая мысль и никакой оригинальности в полемике, к тому же весьма бледно, сухо, если не считать фразы, а искать картину жизни. Для кого эти сказки? Для взрослых не назидательны, для детей непонятны, потому что не образны, не картинны.
Затем добрых два часа отняло «Колесо жизни»57. Ты, наверное, читала. Скажи, что за мысль и что хочет внушить своему читателю автор? Если то, что прогресс есть результат борьбы, и дело, основанное на принужденном равенстве, проваливается, то ведь это такая избитая вещь! Да, конечно, имело бы смысл показать и эту мысль в жизни, в картинах, но этого совсем нет. Разваливание дел общества занимает только какую-нибудь десятую часть статьи и в сказке изображается в виде разговоров в собрании. Ну, это не интересно! А потом оказывается, что и не это мысль сказки. Симпатии автора на стороне его героя. Так в чем же дело?
Остальные слушатели говорят, что в тумане все и дело, что Вагнер и во всех других сказках стоит все на том, что в жизни все несообразно и ничего понять невозможно, – и находят, что это очень хорошо и воодушевительно. Я спорил. Ты говоришь, что жизнь шире, чем сколько знает современная наука, ты этим способствуешь прогрессу, побуждаешь к дальнейшему изучению. Но на проповедь, что все чепуха, что ничего понять невозможно – только и остается разводить руками. Это проповедь застоя, а не прогресса.
Во всяком случае, после чтения «Сказки» я не заметил, чтобы во мне прибавилась мысль или чувство. Но вечер в целом пришелся по вкусу, хотя еще и не сговаривались, недостаточно приноровились друг к другу. В следующие разы будем изучать «Братьев Карамазовых». Сергей Васильевич не был, хотя я и звал.
Четверг, 11 сентября 1880 г., 8 ч. утра
…Вчера вышел отменный день в смысле деловитости, но не содержания для письма. И утром, и вечером делал закупки для предстоящих опытов. Покупал животных, яды и т. д. Ныне, уже наверное, начинается работа. Трудно мне с этой работой, так что и не чувствую в себе особенного пыла, как ты перед своей. Ив чем дело? Привык у Устимовича работать один и хозяином. Здесь хозяев не оберешься; здесь недостаток во всем – и все рвут другу друга из рук. Не знаю, знаешь ли ты это, но к такой борьбе я совсем не годен. Наконец то тот, то другой норовит воспользоваться тобой. И отказывать опять-таки не умею. Ведь я уже около двух годов на себя почти ничего не работал, и сейчас плохо верится, много ли выйдет толку, плохо верится, оттого и нет жару.
Зато радуюсь на тебя, на твою боязнь за успехи дела, на твои радостные мечты о возможной удаче в нашей жизни. А знаешь ли что, Сара! Читаю я твое письмо и думаю: а обратится она когда-нибудь к богу, моя милая. Странное дело: сам в бога не верую, никогда не молюсь, а твои известия об этих молитвах производят на меня какое-то особенно жуткое впечатление. И вот я еще что припоминаю. Еще в начале наших с тобой нежных отношений, когда я все не верил в то, чтобы ты могла меня любить, узнай, что меня изо всего, что ты говорила, убедило? Только то, что ты не молилась об этом богу. Бог, молитва не есть, очевидно, свидетельство, ручательство правды, искренней глубины.
Суббота, 13 сентября 1880 г., 8 ч. утра
Только что, милая Сарушка, прочел (хотя и не всю, потому что спешу) новую часть «Братьев Карамазовых» в августовской книжке. Вся посвящена Ивану Федоровичу. Чем более читал, тем беспокойнее становилось на сердце: как ни толкуй, пропасть похожего на твоего нежного и сердечного читателя. Пока читал спешно, не могу входить в подробности; вероятно ныне же во второй раз прочту – и тогда потолкуемся.
Кто-то тебе говорил, что счастье не делается, а случается? И что мне всегда представлялось. Это, во-первых, справедливо, потому что жизнь такая сложность и такая темнота, что рассчитать мне нет никакой надежды. Моя постоянная мысль, когда я философствую, я не живу. Другое и то: лучше всяких рассуждений, желаний счастливо сложенная натура, а она так мало изменима против того, что дано при рождении. Странно, однако, – это так верно теоретически, а, однако живем совсем другими мыслями, хотя частенько-таки съезжаем и на это – и досадно тогда, досадно. Ты тут соображаешь, волнуешься, стараешься, а выйдет то, что должно выйти по твоей натуре и случайно сложившимся обстоятельствам. Вот тебе уж и Иван Федорович – а на деле пока другое.
Вчера сделал-таки первый опыт. И удовлетворительно. Стоит обратить внимание. Утро провел за приготовлением и не очень весело. Пришел домой обедать и дрянного настроения прибавил (когда-нибудь объясню и это). Вечером в кабинете досада и руготня: опыт шел очень плохо. Выходило так, хоть в Неву. И странно: еще к концу этого дрянного опыта душа с чего-то начала подыматься. Дорогой к дому чуть не пел песни. Проекты относительно работы! А потом относительно и крупных реформ в нашей лаборатории. В чем же суть, дорогая Сарка? Дело, милая, дело! Не слово, а дело. Оно и придало силы, одушевление. Хотя и печальный по научному результату, первый опыт был началом дела. Когда ты говоришь, мечтаешь, сложа руки, тебя допекает задняя мысль, э, фантазия; ты дело-то начни скорее; полно зубы-то заговаривать, все ясно, а затруднения лучше выясняются при деле. Постановка опыта выяснила затруднения нашего лабораторного дела и возбудила в душе живое деловое желание устранить их. Ныне, сейчас предложу себя в распорядители – и все переделаю на сколько-нибудь разумный лад.
Вообще, милая Сарушка, я сейчас как бы расстроенная гитара, которую настраивают струну за струной. Струна гимнастики настроена. К ней теперь пристраивается струна лабораторных занятий. Начинаю ходить исправно в лабораторию, и гимнастика, несмотря на большой физический труд в продолжение дня, дает мне силу довольно легко его переносить. Крепчаю с гимнастики заметно не только для себя, но и на глазах других. Остались еще неустроенными, неподтянутыми струны домашних занятий и постороннего чтения. Но не сразу же! Чувствую только, что к этому идет. Решил (и ты увидишь, что выполню) никуда не ходить – ни в гости, ни в театры, – пока не устану так, чтобы испытать действительно заслуженный отдых. И заиграет же наша гитара на радость себе и тебе, моя милая Сарочка, и всем другим, как она игрывала-таки в прошлом.
Ишь ты ведь: «Сперва себе, а потом и другим». Глупо! Может, просто без сознания написал, а может, склад нашей особы отобразился. Посмотрим!
Дорогую Сарку крепко прижимаю к себе и много целую.
Твой Ванька.
Что бы там ни было, не пропадем!
Среда, 17 сентября 1880 г., 8 ч. утра
…В лаборатории водворяется порядок вяло. Немножко приободрился, перечитывая августовскую часть «Братьев Карамазовых». Скорее достань и читай! Что ни толкуй, основа натуры или, по крайней мере, данного состояния Ивана та же, что и моя. Очевидно, что это человек ума, ясного знания, враг всякого восторга, минутного увлечения, непосредственного поступка, вообще чувства. Ум, один ум все ниспроверг, все переделал, все увековеченные привычки, все условности, все непосредственное, все неосновательное, что есть, однако, жизнь, неосновательное, несерьезное не само по себе, а как оно представляется чистому уму. И человек остался умный, но со страшным холодом на сердце, с ощущением странной пустоты в своей особе.
И начинается травля. Человек, по-видимому, шел правильно, в ногу с веком, все подвергая анализу, – и что ж? – возникает ужасная путаница – и где ж? – в нем самом. Несмотря на весь свой ум, он чувствует себя отчаянно, ему противен его ум, его тянет в сторону этой реальности, так раньше разрушаемой, отвергаемой, и он действительно готов «отдать всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душе семипудовой купчихи и богу свечки ставить».
И, однако, он не может делать, потому что мало захотеть. Он не так жил; его ум сейчас «противен», тяжел, он не дал ему счастья; однако он не знает другого такого же законченного, с такой же историей, судью своей натуре, другого критерия жизни, – он не знает сердца. Натура в глубине бессознательно клянет один только ум, но при обсуждении все присуждается только умом. Всякая попытка сердечной жизни является жалкой, потому что стародавний хозяин натуры – ум.
Плохо, черт подери! Что ни пишу, никогда не могу быть довольным. Поговорить бы! Подумаю, почитаю, напишу еще. Попишемся в этом оба.
Насчет Кати в «Один в поле не воин»58 так ничего и не выдумал, потому что не мог припомнить ее натуры – без этого невозможно и присуждение ее поступка. Ничего, Сара, читай и говори свое мнение, и спрашивай мое. Не беда, что останется без ответа иногда. Придет время, когда постоянно будем вместе решать интересующие меня и тебя вопросы. А теперь эти вопросы, хоть и без ответа, заставляют мечтать, стремиться к их решению в будущем.
А вот и практический вопрос. Не знаю как тебе, а мне, например, хоть эту августовскую часть «Братьев Карамазовых» надо прочесть несколько раз, чтобы уразуметь ее во всех подробностях. Как ты? Имеешь привычку перечитывать романы?
Четверг, 25 сентября 1880 г., 8 ч. утра
Э-э, милая, съехала наконец-таки на нашу систему. Если помнишь, сколько раз мы толковали с тобой о роде занятий! Я и прежде, как и теперь, отстаивал обязательность или внешнюю, не от нас (например, лекций), или нами самими установленную программу, на которую раз согласился, к которой раз несколько привык, – и она тоже является обязательным делом. Ты всегда стояла за работу порывом, по вдохновению. А теперь запела другое: «вот если бы обязательное дело было, тогда б некогда было столько раздумывать и, наверно, лучше было для нас».
Вот мы сошлись и еще. Ведь то, что ты говорила раньше, – чувствовал, знал и я в более молодые годы, и с этим все время боролся и борюсь. Да, это почти необходимость тех лет, когда все еще ново, возбуждает, привлекает то то, то другое, растрогает, и глубоко, до нарушения всякой программы, всякого порядка, новая мысль, новое чувство, новое лицо, особенные обстоятельства и т. д. Но также верно, что это не должно оставаться на всю жизнь. Это бросание должно сменить систематическое преследование определенной программы, определенного плана. Можно ли с этим спорить? Раз так, понятно, что не всякую минуту будет двигать тебя восторг, вдохновение, сплошь и рядом за твоим делом удержит тебя раз навсегда принятая на себя обязанность. Не знаю, так мне представляется. Как тебе? Яне думаю, что это сухо, по-чиновнически. А сознание, а еще лучше само получение результата, стоившего годов усилий, борьбы с обстоятельствами или своими слабостями, разве это сухое удовольствие, сухой скучный процесс? А нормальность-то, Сарушка, устроим-таки.
Сейчас сильно раздумываю вот о чем. Как бы себя заставить думать? Я все время был того мнения, что мы ужасно мало думаем. А теперь мне пришло в голову, что и часто, несмотря на другую видимость, все же мысли-то , думанья нет или оно очень незначительное. Вот, например, я вчера читал лекцию три часа, вечером читал литературу одного физиологического вопроса. А думал ли я? Быть ли довольным вчерашним днем в отношении достаточной умственной работы, или нет? Это вопрос! Во время лекций я не выдумал ни одной мысли, да это редко и приходится; говорил известное изложение, не представлявшее никакого затруднения. Вечером читал, правда, для меня новое, но совсем простое, не требующее для своего понимания ни малейшего напряжения. Таким образом, за целый день ни одного нового соображения. Работал я вчера умственно или нет? Ей-богу, не умел бы ответить. Думается мне, что должно быть другое мерило умственной работы, другая, истинная умственная работа. Вот и подумаю, поищу. Ты хочешь знать мою новую мысль для будущей физиологической работы. Слушай же. Понять ты поймешь, да не оценишь, потому что всего-то я не смогу передать. До сих пор были известны нервы, управляющие движением крови по телу, пригоняющие кровь к рабочему органу и отводящие ее от покоящихся. Это, так сказать, механические кровяные нервы. Я делаю предположение: нет ли нервов, управляющих самой выработкой, самим образованием крови. Вещь, конечно, крайне важная. Кровь такая важная жидкость в организме, и знать механизмы, от которых зависит ее образование, значит, иметь весьма много. Как изменилось бы понимание многих болезненных процессов, сколько бы выиграло рациональное лечение! Но основания для успеха собственно нет, кроме некоторых аналогий. Пробовать все можно; но в данном случае надо хорошо помнить, что дело идет о риске полугодовой работы. Однако смелым бог владеет – и, вероятно, начну. Если объяснение длинно и для тебя скучно, – сама виновата, сама вызвалась. Не могу не заговориться, потому что близкое дело.
Много целую тебя. Кланяйся всем твоим.
Твой Ванька.

«Мефистофель» М. М. Антокольского
Воскресенье. Утро
[письмо написано, по-видимому, 28 сентября 1880 г.]
… Честь имею объявиться; прошу любить и жаловать: твой простокваша ни более, ни менее, как кто?.. Ме-фи-стофель нашего времени, правда, немножко подгулявший в последнее время. Смеешься? Напрасно. Обнаруживаешь этим только свою поверхностность. Не хочешь ли убедиться? В таком случае достань «Вестник Европы», июль нынешнего года, и прочти в конце статью Каверина59 по поводу статуи «Мефистофель» Антокольского60.
По Каверину суть Мефистофеля меняется с течением времени, и современный Мефистофель характеризуется следующим образом мыслей и вытекающим отсюда свойством. Имея перед собой широко раскинувшуюся естественную науку с ее непреложными законами, считая себя частью природы и веря в необходимую законность всего существующего, он не понимает смысла, силы личных стремлений и усилий. Выводи сама, что должно отсюда выйти для характера этого человека и его отношения к разным вещам. А тебе я, наверное, говорил, или ты по крайней мере слышала, как толковал на эту тему с другими.
Да-с. Это – мои мысли, это мой безотвязный и до сих пор не решенный теоретически (а не практически) вопрос. Да и можно ли его решить в настоящее время теоретически? Прочтешь статью Каверина, увидишь ясно, как ничтожно его решение61. Это вовсе и не решение, а простое констатирование двух каких-то миров: общемировой жизни с ее непреложными законами и личной жизни, где эти законы не у дел, где царствует и обязательная свобода. И всякие попытки решения этого вопроса еще надолго, надолго останутся жалкими.
Нет спора, что в этом мы имеем дело с одной из последних тайн жизни, с тайной того, каким образом природа, развивающаяся по строгим, неизменным законам, в лице человека стала сознавать самое себя. Что из этого должно выйти и как это может сочетаться? Но не бойся, голубушка Сарушка! Твой Мефистофель, кажется, уж очень съехал на Фауста или просто разнюнился. Ив данном случае сейчас только и важно практическое решение вопроса, а в таком решении имеет значение не столько мысль, рассуждение, сколько свойство натуры. Впрочем, напомни, впоследствии поговорим об этом подробнее. Выходит, что Мефистофель – Мефистофель, да в отставке.
Пятница, 3 октября 1880 г., 8 ч. утра
И опять прости, моя милая!..
Насчет приглашения тебя в Питер, глубоко чувствую, вел себя непростительно. Опять не хватило тонкости, деликатности (в хорошем смысле) чувства. Да, я оскорбил тебя и сделал тебе много горя. Я, близкий к тебе человек, отнесся так легко к тому, что для тебя так дорого, что тебя так занимает, наполняет. Я держался в отношении тебя примерно так: «Мало ли, мол, чего желает; больше, мол, слова, вздорность, каприз. При мало-мальски благоприятном случае все это, мол, может и должно идти ко всем шутам!» И это тогда, когда ты собираешься на желанное дело, когда требуется именно сочувствие близких людей, сочувствие, одобряющее твой шаг, обещающее и желающее успеха.
Верь, мне тяжело, моя дорогая, за такую ошибку. Верь, что и теперь я думаю о твоем деле, как и всегда раньше думал, как много раз говорил и писал. Я всегда боюсь фраз, я говорю, что чувствую. А то, что говорил об учительстве, о деревне, скажу и теперь. Я только за другим мотивом временно позабыл, оставил в тени все это. Верь, что все же главным образом, а может и исключительно, приглашая тебя в Питер, я боялся за твое здоровье, за твое счастье. Моя вина, что, заботясь о нем, я за ним позабыл и потребности твоей души.
Ведь это, дорогая Сарка, бывает в жизни, и часто, со многими любящими. Сообрази, сколько родители оскорбляют, делают несчастья своим детям, навязывая им счастье, понятое по-своему. Припомни это и прости – и опять без страху, без мысли о моем индифферентном отношении к твоему делу, а доверчиво, дружески идти, все, что будет, считая это нашим общим дорогим делом.
Но ты меня, моя милая Сара, немножко уж и наказала. Ты написала фразу, которая в другое время меня бы сильно убила, потому что может, что она не ясна – и ее нужно толковать и толковать в таком справедливом настроении, в каком сейчас, чтобы понять ее действительный смысл. «Я не могу вполне удовлетвориться тобой (теперь могу очень и очень, но…)». Не правда ли, моя милая, что, прямо не вставляя новых слов, фраза горькая, хочешь, даже больше. Но мне сейчас кажется, что ее происхождение и смысл следующие. Я своим разговором о приезде как будто разрушил, признавая пустыми твои желания, твои мысли, и весь твой интерес для тебя, все твое счастье положил в м о е й особе (ой?!) и в том, что она может дать; как будто бы вся твоя дальнейшая жизнь должна была состоять только в том, чтобы быть около меня, целовать меня, слушать меня – и ничего больше. И ты говоришь, «что сейчас, на первых порах любви, это так; ведь мы же целовались целыми днями – и ничего более тогда для этих дней не желали. Мы оба были дороги друг другу, как есть, так сказать, своей наличностью, своим присутствием сейчас в настоящем без всякого отношения к будущему. Да, это так справедливо сначала. Но в будущем не может оставаться только это. Тогда должно быть дело, милое тебе и мне, дело, созданное и моими, и твоими усилиями, и я хлопочу об этом деле, чтобы обеспечить наше общее счастье». Это, по-моему, твои слова, заключенные в твоей приведенной фразе.
Я и сейчас недоволен, как всегда за последнее время, моим пером: оно досадно плохо передало то, что я хотел передать. Но все же, может быть, поймешь, что старался написать. Так ответь в следующем письме: верно ли я тебя понял, добавь, что не полно, напиши сполна, если я совсем не попал.
Дорогая Сара, может, тебе очень не по сердцу вечные мои промахи и следующие за ними раскаяние, просьба о прощении. Может, скажешь: «Уж если не можешь обойтись без спотыка, по крайней мере не канючил бы». Когда же это кончится? Я плох и хочу быть лучше – и вижу к этому теперь средство, случай в нашей любви. Верь, это так. Много было горьких часов в нашей еще так короткой общей жизни, но есть уже и высокие, хорошие, святые минуты, которые поднимают, очищают. И я хочу пользоваться ими и в них полагать цену нашей любви. Ничего, у нас впереди еще целая жизнь! Придет время, оправлюсь несколько, буду меньше плакаться! И тогда с радостью, с глубокой благодарностью оглянусь, оглянемся на прошлое, приготовившее собою наше справедливое, безупречное довольство, лучше, удовлетворение.

