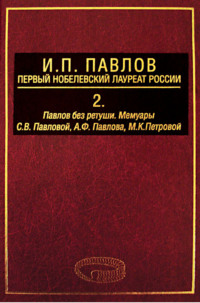
И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 2. Павлов без ретуши
Что же касается уже упоминавшегося выше мнения сотрудников отдела науки ЦК Жданова и Кружкова, полагавших, что в рукописи воспоминаний М. К. Петровой много места уделено ее интимным отношениям с Павловым, то возникшая на склоне лет привязанность академика к своей умелой, увлеченной помощнице, обладавшей не только привлекательной внешностью, но и талантом экспериментатора, вполне естественна и заслуживает уважительного отношения. Возникшая на склоне лет поздняя любовь – явление в истории хорошо известное. Обоюдная симпатия и привязанность Ивана Петровича и Марии Капитоновны не составляли никакого секрета для близких и окружающих. Да и сами они не делали из этого никакой тайны.
В начальной части рукописи «Воспоминаний» Мария Капитоновна говорит: «Когда я решила писать свои мемуары (по просьбе многих), где главным действующим лицом должен быть Иван Петрович, я сообщила ему об этом, сказав, что буду писать о нем как о человеке все, что знаю об его личной жизни, и буду писать всю правду о нас обоих, только правду. На это мое заявление с его стороны не последовало никакой отрицательной реакции, никакого даже малейшего неудовольствия, а как будто даже наоборот, удовлетворение. Этот человек, всегда правдивый, не боялся правды о себе. Спустя некоторое время, подумав, он сказал как бы вскользь, что вообще не склонен сознательно кому-либо причинять боль и просил меня, чтобы написанные мною воспоминания сделались бы общим достоянием лишь после смерти его жены, на что я ему прибавила: и моей (так как записки эти выйдут в свет только после моей смерти и будут переданы в двух экземплярах в надежные руки, чтобы по тем или иным причинам не были искажены кем-либо).
«Заодно опишите и себя, – сказал он, – вы были отличная мать и воспитательница и так хорошо совмещали материнство с любимым, важным научным делом. Ваша жизнь, ваша материнская любовь и страстная, исключительная преданность науке должны служить примером для других».
Но осуществить свое решение, правдиво описать нашу совместную как личную, так и научную жизнь удалось мне лишь после его смерти».
Познакомившись с напечатанной в настоящем издании рукописью, читатель несомненно почувствует, что страницы воспоминаний Марии Капитоновны, как, впрочем, и Серафимы Васильевны, и Александра Федоровича постоянно отражают истинные чувства и живую жизнь непосредственных участников событий. К тому же мемуары жены и племянника И. П. Павлова дополнены нами достаточно подробными комментариями, уточняющими некоторые отдельные детали описываемых событий и дающими более полное представление о действующих лицах, упомянутых в тексте.
К воспоминаниям М. К. Петровой мы решили ограничиться только примечаниями, включающими расшифровку аббревиатур фамилий и краткую характеристику описываемых ею персонажей.
Все мемуары богато иллюстрированы, большая часть фотографий предоставлена Мемориальным музеем-квартирой И. П. Павлова в Санкт-Петербурге, некоторые из них публикуются впервые.
Приводимые воспоминания дают широкую картину жизни Петербурга— Петрограда – Ленинграда на протяжении семидесяти лет: с конца 70-х годов XIX века до середины 40-х годов XX века.
Записки Серафимы Васильевны в основном посвящены жизни Петербурга конца XIX – начала XX века, а воспоминания Александра Федоровича служат дополнением к ним. Павлов и его невеста (а затем жена) вместе со всем культурным Петербургом переживали такие заметные события в жизни города, как смерть Достоевского, убийство Александра II, нашумевшую выставку картины Куинджи «Ночь на Днепре», неизбрание Менделеева в Академию наук…. Перед читателем проходят Гончаров, Мусоргский, Достоевский, Тургенев и другие выдающиеся люди того времени. Но в целом мемуары Серафимы Васильевны вместе в записками Александра Федоровича в большей мере посвящены личной, семейной жизни Павловых.
Напротив, воспоминания Марии Капитоновны в основном характеризуют деятельность Павлова в его рабочей обстановке, в лаборатории в ходе экспериментов, в общении с сотрудниками, коллегами и учениками. Они по преимуществу охватывают совсем другой исторический период, чем записки Серафимы Васильевны, а именно эпоху Петрограда с Первой мировой войной, революцией и событиями Гражданской войны, а затем ленинградский период, включая и драматические события после смерти Павлова, связанные с тягостным временем репрессий, и далее трагическое и героическое время блокады Ленинграда.
Таким образом, публикуемые мемуары несомненно дополняют друг друга и дают живой портрет гениального ученого в разные периоды его жизни и в разных обстоятельствах.
Составители издания и комментаторы его материалов полагают, что публикация приведенных здесь малоизвестных ранее сведений явится своеобразным памятником нашему великому соотечественнику И. П. Павлову – первому российскому лауреату Нобелевской премии.
А. Д. Ноздрачев, Е. Л. Поляков, Э. А. Космачевская, Л. И. Громова, К. Н. Зеленин
Серафима Васильевна Павлова
Из воспоминаний
Текст печатается по машинописному варианту рукописи С.В. Павловой, хранящемуся в Мемориальном музее-квартире И. П. Павлова в Санкт-Петербурге (Научно-вспомогательный фонд, № 1).
Рукопись состоит из трех частей: «Детство и юность», «Студенческие годы (1877–1880)», «Замужняя жизнь (1881–1936)», включает 453 страницы машинописного текста и имеет оглавление. Первая часть воспоминаний (123 стр.) содержит подробности детских лет жизни Серафимы Васильевны, проведенных в родительском доме, не имеет непосредственного отношения к И. П. Павлову и поэтому не включена в настоящую публикацию. Авторский текст второй и третьей частей «Воспоминаний» сохранен полностью, внесены лишь некоторые исправления пунктуации в соответствии с современными правилами.
Основной текст данной главы набран гарнитурой Times, ранее не публиковавшиеся фрагменты текста «Воспоминаний» набраны гарнитурой Helen-Cond (у которой буквы более узкие, без засечек). Воспоминания, письма к невесте и автобиография Ивана Петровича набраны курсивом.
Студенческие годы (1877–1880)
Самым прекрасным счастьем мыслящего человека является достижение достижимого и спокойное преклонение перед недостижимым
Петербург
Молодой девушкой, много работавшей, но никогда не покидавшей родной семьи, приехала я на курсы в Петербург. Надо сказать, что, зарабатывая на свою жизнь с 12 лет, я была самостоятельной. Поездка в столицу одной и без всяких средств меня нисколько не страшила. Имела я всегда уроки у себя в провинции с постоянно успешными результатами, почему бы мне не иметь их и на курсах? Так думая, я поехала.
Приезд в Петербург не ознаменовался для меня особенно сильными впечатлениями. Во-первых, я видала массу фотографий этого города и слыхала много рассказов о нем от учениц. Во-вторых, приехала в осеннюю погоду. Небо было цвета помоев. Все виделось сквозь серую грязную сетку, лица были непозволительно угрюмы и озабочены. Не встречалось ни одного! лица со спокойной радостной улыбкой, к чему мы так привыкли на юге. Поразила меня только красавица Нева.

Сарра Карчевская. 1877 г.
Может быть, этому угрюмому впечатлению способствовало еще также мое полное безденежье.
Платить в гостинице мне было трудно, и я очень обрадовалась, когда одна из моих одноклассниц, имевшая большую комнату на Сергиевской, приехала и тотчас же перевезла меня к себе. С ней я прожила до тех пор, пока не нашла себе сожительницу – молодую девочку лет 16–17, только что окончившую симферопольскую гимназию, с которой мы дружно и весело прожили весь первый год.
Денежные дела я устроила просто – заложила золотую медаль и шубу. Квартиру же мы искали с приключениями.
Устроились мы сначала в Столярном переулке у одной вдовы с обедом за очень дешевую цену. Оказалось же, что хозяйка кормила нас курами с червяками, отмывая кур в уксусе.
Каждый раз, когда мы возвращались с лекций (у нас лекции были от 5 до 9 часов вечера), встречал нас пьяный городовой с гармошкой и приговаривал:
– Чтой-то барышни каждый вечер тут ходите, и каждый вечер только смущаете?
От таких «смущений» мы перебрались на другую квартиру. В поисках нового пристанища попали мы к одной очень благообразной и чистенькой старушке, предложившей нам светлую и уютную комнату со всеми удобствами и даже с кисейными занавесками на окнах. Мы были очарованы. Отдавала она нам эту комнату за 13 рублей в месяц. Прежде чем дать задаток, я спросила, нельзя ли дверь в другую комнату, которая была заперта, заставить платяным шкафом. Хозяйка на это возразила:
– Никак невозможно: эта дверь ведет в комнату других жильцов.
– Что же, – воскликнули мы, – наша комната будет проходная?
– Да, через вас будут ходить только два приказчика, люди они молодые, благородные, хорошо одетые, а кроватки ваши я завешу простынкой и для этого протяну через комнату веревочку.
Мы расхохотались и сказали, что никак не можем согласиться. Уступала она нам комнату за 10 рублей с самоваром утром и вечером и соблазняла выгодным знакомством с приказчиками.
– Вот и мне они принесут то платочек, то чулочки, а для вас, молодых, наверно, еще больше постараются.
Понятно, что мы со смехом отказались от такого приятного и выгодного соседства.
У меня были рваные чулки, у моей сожительницы – рваные сапожки, мы обе соблазняли друг друга и весело смеялись, словом, мы все же отлично прожили первый год нашего проживания в столице.
Постепенно жизнь наладилась, хотя я и опоздала к началу занятий, но встретила весьма доброжелательное отношение со стороны начальства, благодаря золотой медали, с которой окончила гимназию. Я была принята на педагогические курсы1.
Беда была в одном: я не могла найти уроков. С большим трудом получила, наконец, урок далеко от моей квартиры. Нужно было ежедневно заниматься за 15 рублей в месяц. Вот на эти деньги я и прожила целый год, так как родные мои, не желавшие моего пребывания среди передовой молодежи, не помогали мне. Был у меня в Петербурге крестный. Но от него я ничего не принимала.
За ученье я заплатила, заложив шубу. Зато проходила целую зиму в драповой кофточке и без галош (мои украли в театре), а зима в тот год была лютая. Билеты в театр – самые дешевые – покупала на деньги от продажи букинистам моих наградных книг. Конечно, за них получала я немного. Шесть рублей платила за комнату, пятьдесят копеек прислуге. Оставалось восемь рублей на баню, прачку и еду. Что же? Я не только не похудела, но даже не побледнела.
Крестный Павел Петрович (адмирал П. П. Семенюта)
Мать моя очень недоброжелательно и даже со страхом смотрела на мою затею – поездку в Петербург, так же, как и все нежно любившие меня сестры и их мужья2. Желая, чтобы я имела близкого человека на чужбине, мать просила меня зайти к моему крестному отцу, товарищу покойного папы по службе в Черноморском флоте.
В день отъезда не оказалось моего метрического свидетельства, и мать решительно объявила, что вышлет его на имя Павла Петровича – моего крестного. Я была страшно недовольна. Однако билет был взят, ждать было некогда, и я поехала.
Впоследствии глубока была моя благодарность предусмотрительной матери за знакомство с таким редким, умным и добрым человеком. Он, действительно, стал мне близким, как отец родной. С ним я делила и горе, и радость в течение всех трех лет моего учения.
В один из свободных дней отправилась я впервые к Павлу Петровичу. Была принята им, как родная и получила приглашение обедать по субботам.

Серафима Андреевна Карчевская мать С. В. Павловой. На обороте фотографии подпись: «Моей милой, дорогой Сарре от горячо любящей ее матери. 8 сентября»
В этот день у доброго холостяка собирались дети его приятелей. Были это все мальчики, обучавшиеся в разных закрытых заведениях: лицеисты, правоведы, моряки и кадеты. Из девиц я была одна. Крестный требовал от своих мальчиков хороших манер, всегда честного отчета о протекшей неделе и рыцарского отношения к женщине. Понятно поэтому, что они благоговейно внимали моим речам и выполняли все мои желания и просьбы: брали билеты в театр (конечно, на мои деньги), доставали книги, переписывали мои заметки. Некоторые пробовали как-то дарить мне цветы и конфеты, но я, не желая обидеть тех, кто не мог ничего купить, наотрез отказалась принимать какие бы то ни было дары.

Павел Петрович Семенюта крестный отец С. В. Павловой
Мой крестный отец был председателем военно-морского суда. Он был большим приятелем покойного отца, часто бывал у нас в доме и вместе с другими офицерами Черноморского флота ухаживал за моей матерью.

Василий Авдссвич Карчевский отец С. В. Павловой
Припоминаю наш первый разговор в Петербурге. В самых теплых и дружеских выражениях высказал он свое мнение о моем покойном отце. Говорил, что отец за безграничную доброту и веселый нрав был общим любимцем всех, служивших в Черноморском флоте. Уютный домик моих родителей вообще охотно посещался. Там часто бывал незабвенный учитель Черноморского флота знаменитый адмирал Лазарев3. Бывали и остальные члены этой прославившей себя кампании, как, например, Нахимов4. Он всегда ходил в эполетах, в картузе, при кортике и с книгой, заткнутой за пояс на читаемой странице. Наряжался он так постоянно, даже во время войны, чтобы по ошибке не убили кого другого вместо него.
Говорил крестный и про маму:
– Должен сказать, что мы все были влюблены в вашу мать и ухаживали за ней. За многими ухаживал я в своей жизни, но мало кого из них вспоминаю я с таким удовольствием, как вашу мать. Она как живая стоит перед глазами. Голова убрана редкостными косами. Розовое барежевое платье с открытой шеей и короткими рукавами, а на шее бриллиантовый крестик на узенькой черной бархатной ленточке с концами до самого подола. Это было тогда в большой моде и называлось «следуйте за мной». Вот мы и следовали за нашей прекрасной докторшей!
После знакомства со мной крестный проезжал как-то через Ростов-на-Дону. Во время остановки поезда, у моей сестры и у отца моей приятельницы Киечки – Авдотьи Михайловны Прокопович, он прославлял мое благоразумие в лестных для меня и сильных выражениях, и рекомендовал отцу отпустить Авдотью Михайловну под моим попечением на курсы.
Студенческая жизнь
Моя жизнь с компаньонкой по комнате протекала очень дружно, несмотря на несходство наших характеров. Правда, обе были чрезвычайно веселого нрава и хохотали по каждому пустяку, но, кроме того, обе были прилежны и настойчивы, много и дружно работали по предметам своего курса. Время же отдыха проводили весело и горячо спорили обо всем прочитанном и переживаемом. Вскоре после того, как мы стали жить вместе, у нас начинала собираться молодежь. Многие были нам даже незнакомы, и большинство из них я больше в жизни не встречала.

Сарра Карчевская. 1871 г.
Раз один студент-медик сказал мне:
– Мы много беседовали о вас, Карчевская, и решили, что вы должны поступить на медицинские курсы, а не заниматься отсталой педагогикой.
– Кто же это решил, – сказала я, смеясь, – знайте, я никому не позволю решать мои личные дела!
– Я ждал подобного ответа, судя по вашей характеристике, сделанной вашими одноклассниками. И это особенно заставляет меня настаивать на перемене вашего плана.
Целый вечер прошел в переливании из пустого в порожнее на эту тему. Ушел он ни с чем, обиженный своим поражением.
Вот однажды заспорили мы с подругой для удовольствия спорить, как правильнее говорить: вкус или скус, вострый или острый и т. д. Спор был очень оживленный, я побеждала, доказывая, что надо говорить «вострый» и, по нашему выражению, загнала свою противницу в клетку.
Как раз во время этого спора пришли к нам в гости четыре знакомых студента. Я замахала на них руками:
– Садитесь и молчите, вы увидите, как я ее снова загоню в клетку.
Моя противница усиленно просила прекратить наше словопрение. Я не согласилась и в конце концов заставила ее признать, что следует говорить «скус», а не «вкус».
Такие споры бывали у нас очень часто. Запутываясь в своих объяснениях, приходилось подчас признавать, что следует писать «характер», а не «характер» и т. п. Этим мы развлекали иной раз друг друга, ввиду отсутствия иных увеселений.

Мсье Лео, английский консул
Посещал нас, между прочим, еще один студент-путеец, мой знакомый по гимназии. Он был простоват и забавлял нас немудреными анекдотами, вроде следующих: «Почему говорят досвиДАНИЯ, а не досвиАНГЛИЯ» и т. п. Когда он приходил, мы не отворяли ему дверь до тех пор, пока на наш вопрос: «Кто там», он не отвечал «Это же я», тогда дверь со смехом отворялась, и целый вечер проходил в веселой болтовне, конечно, если у нас не было спешных и неотложных занятий.
* * *Была у моей компаньонки знакомая консерваторка. Консерваторка эта приехала в Петербург лет 19–20. Заходила она вначале к нам частенько, была недурненькая, хорошо одевалась. Вот однажды она сказала:
– Приехала я сюда, чтобы сделать карьеру. Я безумно люблю красивую жизнь: блестящие туалеты, роскошную обстановку, выезды, приемы. А мой дядя, правильнее сказать мой отец, ксендз, дает мне только 50 рублей в месяц, да подарки в праздники. С этим далеко не уедешь!
Мы ужаснулись:
– Да вы богачка!
– Сколько же имеете вы? Я считаю, напротив, богатыми вас: вы всегда веселы, всегда хохочете!
– Да разве веселье приходит только с богатством, мы веселимся своей молодостью, наша работа нам по душе. Богатство и все, о чем вы мечтаете, я могла получить, не уезжая из своего города, да вот не пожелала и нисколько об этом не жалею.
– Я не могу вас понять. Если у меня нет красивого туалета, я совершенно печальна и никуда не могу показаться.
– Да перестаньте вы думать о таких пустяках, и вам будет также весело, как и нам, хотя у нас нет туалетов, кроме одного поношенного черного платья!
– Никогда не поверю, вы кокетничаете вашей простотой.
Когда же мы открыли ей свои сундучки (у нас не было даже шкафа), то повергли ее в недоумение. После этого разговора она начала ходить к нам реже и реже и, наконец, совсем перестала.
* * *Не все мы веселились, бывало нам и грустно.
Наступили Рождественские праздники и первые, которые я проводила вне дома. Курсы закрылись на две недели. Сидим мы и с печальными минами перебираем, какие теперь дома вкусные вещи.
Вдруг приходит горничная и передает мне повестку на посылку в 6 фунтов. Стараемся отгадать, что это. Сожительница уверяет, что это рождественские платья, а я же выражаю надежду, что мне высылают из дома теплые чулки и т. п.
Только на другой день могли мы получить посылку. На почту отправились вместе. Когда я увидела, что отправитель мсье Лео5, то сразу решила, что это конфеты. Чуть не бегом вернулась домой, и, о радость, конфеты, да еще какие, шоколадные, засахаренные фрукты, одним словом, самые мои любимые.
Сожительница вскричала:
– Ну, не милашка ли ваш Ле, я бы его расцеловала.
Я присоединилась к ее мнению.
Долго мы с ней хохотали, уплетая чудесный подарок, и обсуждали благодарственный ответ за внимание и подношение.
Студенческие нравы в кружке
Благодаря подругам по гимназии, я вскоре попала в передовой кружок. С жадностью слушала я горячие речи о народном благе, о необходимости поднятия народного образования и непременно наряду с этим о борьбе с правительством. Приглядывалась я, прислушивалась, но сама не бралась говорить среди руководителей.
Много говорилось о нашем равноправии. Это мне не нравилось после рыцарского почтения ко мне в молодой компании у крестного. Не нравилось мне это еще и потому, что почти все мужчины установили весьма грубые отношения к нам, молодым девочкам.
Так, например, одна медичка называлась у нас «всеобщей». Когда я попросила одного из членов кружка – Орловского – объяснить мне, что это значит, то он сказал, чтобы я спросила курсистку – нашу красавицу Дроздову, бывшую уже на втором курсе. Дроздова объяснила:
– Какая ты наивная, Южанка (так звали меня в кружке, где у всех были прозвища), она просто переходит от одного мужа к другому!
Это меня страшно возмутило, и я отстранилась от этой медички, весьма миленькой девицы.
Вскоре один из руководителей – Волгин – препротивный, толстый, уже плешивый, с маленькими глазками, толстыми губами, с гнилыми зубами, вздумал во время разговора обнять меня! Со всего размаху я закатила ему пощечину и воскликнула:
– Помни – языком болтай, а рукам волю не давай!
Он начал говорить о том, что я о себе много воображаю, что Вера с моего курса стала без всяких фокусов его гражданской женой, что он найдет себе получше меня.
Много я навидалась, как пользовались нашей неопытностью и нашим желанием быть передовыми и вполне равноправными с мужчинами.
На меня все это повлияло так, что я стала проповедовать женское с в е р х п р а в и е.
Мое отношение к членам кружка доставило мне если не дружбу, то расположение Дроздовой, чем я была весьма довольна. Вот однажды Дроздова спрашивает меня:
– Вы живете одна?
– Нет, с подругой.
– Так приходите ко мне, мне надо поговорить с вами по личному делу.
– Хорошо, приду.
Пошла я к Дроздовой.
– Я полюбила вас, и вы мне нравитесь, особенно ваша проповедь сверхправия.
– Спасибо, это мне лестно.
– Будете говорить мне правду.
– Обещаю.
– Вы очень интересуетесь Орловским?
– Как и многими другими, не больше. Я с ним весело болтаю.
– И только – только?
– Решительно только.
– И сердце ваше не затронуто?
– О, нисколько!
– Вы знаете, за вас он избил Волгина.
– Слышала. Да этого негодяя за многих надо было избить.
Надо сказать, что в кружке был молодой Орловский, только что окончивший Институт путей сообщения. Он был недурен: блондин, с ясными ласковыми голубыми глазами, кудрявый, румяный, всегда с хорошей улыбкой, всегда веселый, остроумный. Мы с ним много болтали и частенько хохотали до слез, так как я была веселого нрава и большая болтушка. Кроме этой болтовни и одного его стихотворения, поднесенного мне и осмеянного мною ко всеобщей потехе, между нами ничего не было. [Он как-то пришел за мной в Казанский собор, туда я заходила по дороге с курсов (они были на Гороховой улице рядом с училищем глухонемых) и поверяла нашей заступнице свои радости и горести. Вот он и написал по этому поводу стихи, я думала, что своими стихами он желает высмеять мою религиозность, и жестоко отчитала его.]
Но, продолжая наш разговор с Дроздовой:
– Вас поразил мой допрос?
– Признаться, да.
– Так знайте, я всей душой люблю его, люблю давно, еще в Гимназии я полюбила его и ради него поехала сюда, хотя могла ехать за границу: у меня есть средства. Оставьте мне его, не увлекайте, если вы его не любите! Только по-моему нельзя знать его и не любить. Никогда я бы не посещала кружок, если бы не он. Вот я и подумала, что и вы тоже ради него ходите на эти бестолковые разговоры, где пользуются нами как даровыми кусками! Разве не жалко рыженькую девчонку, которая гордится, что такая дрянь, как Вышерский, пользуется ее безграничной любовью и радуется, что она его гражданская жена. А «всеобщая»? Я дрожала за вас, когда вы появились в этой компании, юная, милая и веселая. Мне понравилось, что вы приглядывались, не болтали высокомерно с чужих слов и хорошо отожгли Волгина. Вы не пропадете! Теперь я боюсь за юную Уфу, привел ее земляк, а сам перестал ходить, будем вместе беречь ее.
Крепко пожала мне руку красавица и поблагодарила за откровенность. После этого я стала по возможности избегать веселого Орловского. Он же не отставал от меня и подносил мне чудные стихотворения как свои произведения. Оказалось, что все это стихотворения Тютчева. Мой поклонник переписывал стихи крупного поэта, надеясь на мое невежество и зная мою любовь к поэзии.
* * *Жизнь шла своим чередом. Учились. Сдавали экзамены. Весной катались в свободное время на лодках, слушали в кружке лекции приятелей Желябова6, мечтали послушать его самого, хотя бы посмотреть на ученого Кибальчича7.
Кончились экзамены. Я собиралась ехать домой к себе. Многие же кружковцы поехали в какую-то деревню за Волгой для работы, вернее, для пропаганды среди народа. Провожали в эту поездку Верочку с Вышерским и еще кого-то. Мы были поражены, увидев детку Уфу с Волгиным. Остановившись около нас, как бы хвастаясь своим успехом, Волгин проговорил:

