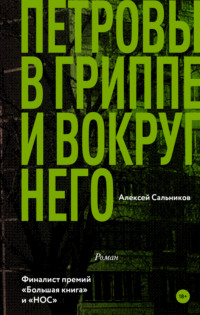
Петровы в гриппе и вокруг него
– Так ведь не первый раз уже, – отвечала жена врачу.
Петров занял место, которое освободила врач, и принялся развязывать шнурки своих зимних ботинок. Вот чего не хватало ему вчера в квартире Виктора Михайловича – рухнуть на полочку для обуви, а не корячиться в согнутом состоянии, пытаясь не упасть, и не пыхтеть на корточках, чувствуя, как кровь и жар приливают к лицу. Край длинной шерстяной юбки врача мелькал у Петрова перед глазами, пока он разувался, а врач еще раз терпеливо объясняла жене, какие таблетки нужно купить, если их нет, и сколько раз в день их принимать.
– Сейчас же все всё знают, – говорила врач, – начали в интернет лазить за советами. А кто-то по старинке копеечным аспирином ребенка пичкает, хотя сейчас много хороших средств появилось, которые дети с удовольствием принимают. На соседнем участке бабка годовалому ребенку по забывчивости скормила три таблетки аспирина. Другая спиртом обмазывала до алкогольной интоксикации. Еще одна чистотелом напоила – травки перепутала. Вообще, бабушек меньше слушайте, если они у вас есть.
– Да сейчас все дома, – успокаивала ее жена, – никаких бабушек.
Петров помнил этого участкового врача еще по школе – она училась на несколько классов старше, они как-то были даже знакомы с женой через всяких других знакомых, поэтому, как бы врач ни прикидывалась беспристрастным наблюдателем, вся история Петровых с их разводом была для нее как на ладони.
Петров иногда оглядывал свою семейную жизнь со стороны и тоже слегка удивлялся тому, что они с женой развелись и все равно иногда живут вместе, словно откатив свои отношения до стадии свиданий. Только в прошлый раз во время этой стадии Петрова была едва выпустившейся студенткой, и у нее не было сына, и у Петрова не было сына. Это не была попытка освежить отношения, это было что-то другое, но Петров не знал, что именно. Петрова попросила развода по каким-то своим соображениям, которые были Петрову совершенно непонятны. Больше всего Петрова беспокоило, что жена могла изменить ему и из чувства вины начать весь этот цирк, просто не решаясь признаться. Это казалось Петрову хуже всего, ему становилось плохо от мысли, что он целует женщину, которую совсем недавно целовал кто-то другой. Это были глупые, совершенно пошлые мысли, похожие на строчки слащавых песен группы «Руки вверх!», но Петров ничего не мог с ними поделать.
Петров разулся и встал рядом с женой. Петрова держала руки под мышками, словно мерзла. Врач некоторое время смотрела на них, ожидая какого-то представления от разведенок, стоящих плечом к плечу, ей, видимо, хотелось увидеть, какими словами они сейчас начнут обмениваться, но Петровы не доставили ей такого удовольствия и просто дождались, когда пауза молчания между ними и доктором станет тягостной. Врач, хорошо скрывая свое разочарование, вышла.
– Фу, ну и запашок от тебя, – сказала Петрова, когда Петров повесил дубленку на вешалку. – Ты что, в морге пил и там же спал?
– Почти, – ответил Петров, внутренне ужасаясь силе обоняния жены. – Там долгая история. Там Игорь и все такое.
– Это вообще настоящий Игорь, или это твой воображаемый друг?
Иногда Петров задавался тем же вопросом, но не всерьез, как-то Петров все же доверял здравости своего рассудка, чтобы считать Игоря и себя этакими героями «Бойцовского клуба». А вот жена и сын иногда казались ему призраками его воображения, настолько было ему с ними хорошо, настолько они постепенно обрастали для него подробностями, Петрову казалось, что это не от того, что сын растет и приобретает какие-то свои пристрастия, вроде привычки спать на спине, закинув ногу на ногу, или привычки спать на спине, укрываясь одеялом поперек, так что голова и туловище у него оказывались под одеялом, а ноги по колено – нет, и не от того, что он узнавал, что жена имеет настолько пещерные взгляды по поводу воспитания ребенка, что повсюду развешивает турники для сына и везде – и в этой квартире, и у себя – повесила боксерскую грушу, хотя Петров-младший был не то что далек от спорта, он был чем-то неприложимым к спорту вообще. Скорее боксерская груша поколотила бы сына, чем он ее. Иногда Петрову казалось, что он придумывает эти новые подробности про близких своих людей.
С другой стороны, Петров, например, вообще ничего не знал о татарах, кроме того, что иногда попадал на татарский телеканал, который был в его кабельном, Петров просто не мог придумать, что его жена – татарка и даже знает татарский язык, силы воображения Петрова просто не хватило бы на то, чтобы придумать имя, которое носила жена, и совершенно невообразимое отчество, которое у нее было. При всем этом они ездили в тот же Татарстан к родственникам жены, на свадьбу ее двоюродного брата, и никто никогда из попутчиков в транспорте или там прохожих никогда не заговаривал с женой по-татарски – настолько у нее была простая славянская внешность, а к Петрову на татарском обращались постоянно, заставляя его краснеть, как будто он был татарином, и отказался от своих корней, и забыл даже язык. Петров, в конце концов, не мог придумать бабушку жены – реально такую полноватую бабушку в цветном платочке, перескакивающую с одного языка на другой, – и не мог придумать, что она будет буквально виснуть на нем, выясняя, откуда у Петрова с его фамилией такая аутентичная татарская внешность. «Моя бабушка согрешила с водолазом», – хотелось ответить Петрову на это, потому что его собственная бабушка правда согрешила с водолазом Балтийского флота – дедушкой Петрова. Дед был из детдомовцев, так что Петров, получается, носил фамилию, придуманную работником детдома во времена гражданской войны. У этого работника детдома тоже с воображением было не ахти.
Турник, который повесила жена для сына, был в простенке между прихожей и ванной, по пути к кухне. Она рассчитала примерный рост всех членов семьи, но нетрезвым гостям Петрова, например, тому же высокому Паше, приходилось несладко, когда они цеплялись за турник головой. «Я уже и у себя дома пригибаться начал при виде кухонной двери», – говорил Паша после того, как побежал поблевать в туалет Петрова и турник пришелся ему прямо на переносицу. Сам Петров не задевал турника головой, но чувствовал, как он касается его прически, как некий ангел-хранитель.
После того как жена сделала замечание о его запахе, Петров не мог пройти мимо ванной и не мог не оценить свою мрачную, небритую два дня рожу в зеркале над раковиной. Жена тоже устроилась неплохо, на полочке под зеркалом лежала ее зубная щетка и всякие ее ночные кремы для рук и для лица (в ее квартире, между прочим, бритвы Петрова и его зубной щетки не лежало). Стиральная машина возле умывальника гудела со звуком, отдаленно напоминающим звук авиационной турбины истребителя. Через патрубок, шедший от стиральной машины к унитазу, лилась ярко-розовая вода, смешанная с мыльной пеной.
– У тебя там белых вещей нет? – спросил Петров через плечо, жена, сунув руки под мышки, тоже смотрела на эту ярко-розовую воду. – А то получится как тогда.
Всего-то год назад, когда Петров-младший ходил в первый класс, – теперь казалось, что просто уйма времени прошла, – они постирали новые розовые колготки сына вместе со своими вещами. Нужно было сразу понять, что от этих колготок не стоит ждать ничего хорошего, и тем более не стоило их совать в стирку с другими вещами тогда еще, когда они безо всякой стирки отлиняли на ноги Петрова-младшего, раскрасив их по всей длине ровным оттенком, причем цвет был такой, что Петровы так и не поняли, что это за цвет, Петров говорил, что это розовый, а Петрова говорила, что фиолетовый. После стирки колготки правда стали фиолетовыми, зато на белой футболке Петрова, на белых носках Петровой, на белых и голубых майках Петрова-младшего остались отчетливые пятна ядовитого розового цвета.
– Это я пальто стираю, – пояснила жена.
Пальто у Петровой тоже линяло всегда. Пальто уже было года три, Петров говорил, что эту адскую вещь нужно выбросить, потому что она не только все время линяет, но еще и долго потом сохнет. Петрова говорила, что пальто ей идет. Петров говорил, что, может, оно и идет Петровой, но толку от него нет – оно же холодное, в нем зимой не теплее, чем в свитере.
Петров, решив, что потом как-нибудь вытащит всё из карманов, скидал все с себя в корзину для белья и полез в душ. Петрова стояла тут же и смотрела совершенно равнодушным взглядом. Вообще, с появлением ребенка отношения Петровых потеряли былую долю интимности, когда ванная, совмещенная с туалетом, запиралась, если кто-то из Петровых мылся или ходил в туалет. Теперь могло быть так, что Петров мылся, Петров-младший сидел на унитазе, ковыряясь в носу и болтая на одной ноге сползшие к полу трусы, а Петрова в это время, допустим, закладывала в стирку одежду, или, допустим, Петрова сидела на унитазе, а Петров в это же время мыл Петрова-младшего, Петрова просила принести ей новую прокладку из сумочки, Петров уходил, а когда возвращался, заставал сына и жену беседующими друг с другом столь непринужденно, словно все они были одеты и находились в гостиной.
– Есть ты, наверно, не хочешь, – сказала Петрова, когда увидела, что Петрова тоже бьет гриппозный озноб, непредсказуемо обострившийся под горячим душем.
– Не буду, – сказал Петров в нос, и это было тем более удивительно, потому что нос у него был совершенно забит. – Если я чем сегодня и буду питаться, то только таблетками.
Жена рассмеялась.
– Как в будущем шестидесятых, – сказала она. – Я тут недавно перечитывала Губарева…
Петров непонимающе посмотрел на Петрову.
– Ну, он «Королевство кривых зеркал» написал. У него еще есть «Путешествие на Утреннюю Звезду», так там пришельцы не таблетками, конечно, питаются, но почти.
Петрову нравилось, когда жена была так спокойна. Ему было с чем сравнивать. Просто были у Петровой периоды некого раздражения, что-то вроде гона, как у кошки, когда она была слегка не в себе, рассеяна и непредсказуемо взрывалась, она начинала находить в Петрове какие-то недостатки, о каких он и помыслить не мог. Однажды она наорала на Петрова за то, что он громко сопит носом и заглушает этим телевизор. Еще был скандал из-за того, что он ставит кружку с чаем слишком близко к краю стола. В такие дни что-то гудело внутри нее, как сварочный аппарат. В обычные дни, если Петров храпел, она просто просила его перевернуться как-нибудь по-другому, в дни раздражения она могла не полениться дойти до кухни, набрать там воды в стакан и вылить его Петрову на голову, и это было еще не самое плохое, иногда она просто отвешивала храпящему Петрову оплеуху или подзатыльник и просила заткнуться. Секс с ней в такие бешеные дни превращался в очень экстремальное мероприятие. Она могла заорать: «Да куда ты лезешь-то, блин!», могла рассмеяться и сказать: «Ну и рожа у тебя». Могла сбросить Петрова с себя, перевернуть, усесться сверху и, говоря с ненавистью: «Да давай ты быстрее уже», вцепиться ему в горло одной рукой так, что у Петрова темнело в глазах.
В дни спокойствия ничего не могло вывести ее из равновесия. Другое дело, что с первого взгляда не всегда можно было отличить один период от другого. Как-то Петров купился на ее мирный вид в то время, когда она шинковала лук и вытирала слезки тыльной стороной ладони, полез к ней с объятиями со спины, и жена, зевнув, как от скуки, быстро и глубоко взрезала ему предплечье во всю длину. Петров тогда удивился не этому ее поступку, а тому, насколько острые ножи у них в доме.
Был только один стопроцентный признак того, что жена находится в спокойном состоянии. Когда жена была спокойна, она рассказывала о библиотечных делах или о книгах. Больше всего из этих рассказов Петрова впечатлил рассказ про дядечку лет пятидесяти, который перечитал все сочинения де Сада, затем перешел на всю возможную литературу о концентрационных лагерях, после чего стал читать книги о гинекологии, хирургии и анатомии. Петрова однажды столкнулась с этим дядечкой вне библиотеки, в книжном магазине, где он листал «Камасутру», иллюстрированную фотографиями. Петрова сказала, что если на Уралмаше начнут пропадать женщины, то не нужно будет особо долго искать подозреваемого.
Петров уже пил чай, прихлебывая им таблетки жаропонижающего, отхаркивающего и средства от кашля, и рассказывал, как провел вчерашний день, когда появился хмурый от болезни сын, открыл холодную воду и стал пить прямо из-под крана, пока жена не прервала это питье окриком, похожим на крик чайки.
– Жарко, – пояснил сын, теребя серый пластырь на безымянном пальце.
– Ну так что теперь? Снег есть? – спросила жена. – Давай уж лучше морса выпей.
Сын только пробурчал в ответ что-то недовольное и пошел было к себе, но тут Петров вспомнил про «Кока-колу», оставленную возле ботинок в прихожей. Петров-младший поделился с отцом стаканом «Колы» и уволок газировку к себе. Петров тоже, не в силах уже выносить яркий солнечный свет в кухне и свое сидячее положение, подался в спальню, задернул шторы и завалился в постель. Когда он наконец уснул, то ему не снилось ничего. Вместо сна была чернота, этакий комикс, состоящий из кадров, полностью залитых тушью.
Глава 3
Елка
Петрову было четыре года. Он проснулся раньше родителей не потому, что сегодня была елка, на которую его должны были повести, а потому, что в четыре года он всегда просыпался рано. Было еще темно и пахло кошками, потому что бабушка подарила в комнатку Петрова полосатый половичок, скользивший по линолеуму, а у самой бабушки был кот, которого почти никогда не было дома. Петров видел бабушкиного кота всего один раз. До встречи с ним Петров представлял, что с котом можно будет поиграть, но это оказался зверь размером едва ли не с самого Петрова. Играть кот не хотел, кот хотел только лежать на кровати, такой высокой, что Петров не мог на нее забраться самостоятельно. Половичок постирали, но от этого он стал пахнуть кошками еще сильнее.
Первым делом Петров прошел в туалет по длинному темному коридору. В конце коридора была дверь и был свет уличного фонаря, падавший сбоку из кухни, дробленный стеклом кухонной двери до тусклых радужных перьев, лежащих на стене и полу. Чувство, что посещало Петрова, когда он проходил по коридору, можно было назвать готическим, настолько размеры самого Петрова были несоизмеримы с размерами коридора, а само готическое чувство брало начало в каких-то первобытных чувствах, когда никакой архитектуры еще не было, но людям нравились и одновременно людей пугали открытые пустые пространства. На двери туалета была прибита пластмассовая фигурка веселого мальчика, писающего по широкой дуге. Петров не понимал причин этого веселья, тем более что фигурка была повернута лицом к идущим в туалет, а щеки у мальчика были совсем уж какой-то нездоровой пухлости. Когда Петров видел эту фигурку, он всегда неосознанно трогал себя двумя пальцами за шею, проверяя лимфоузлы, потому однажды они у Петрова воспалились и его отражение в зеркале разбарабанило до такой же степени.
Свет в туалете родители никогда не выключали, зная, что Петров опасается темноты, причем не всякой – темноту в своей комнате он как-то переносил, – а именно темноты туалета и ванной. Скорее всего, из-за того, что там как-то по-особенному пахло взрослыми, будто это была их территория, помеченная именно ими, а маленький зверь, каким Петров пока по большей части и являлся, чувствовал, что территория не его. Туалетная комната была узкой и напоминала Петрову колодец с лампочкой на самом верху. В углу под потолком всегда жил паук, и Петрову было спокойнее видеть паука при включенном свете, нежели предполагать, что паук уже спускается к нему на паутине, пока он сидит на высоком унитазе, холодном, как стетоскоп местного врача. Смывать за собой Петров пока еще не мог – шнур был слишком высоко, а кроме того, порождал жуткие звуки ревущей воды, раздававшиеся сразу отовсюду, словно смыв должен был происходить не в самом унитазе, словно всю комнату должно было засасывать в сливное отверстие после каждого использования.
Петров вернулся к себе, даже не заглянув к родителям в комнату. Очень редко зверю внутри него хотелось приобщиться к стае и потешить инстинкт самосохранения, лежа в безопасности между двумя большими людьми. Петров пока и родителей-то особо не считал родителями, а видел в них только две абстрактные фигуры, две передвигающиеся по дому горы, то и дело обращающиеся к нему с играми и разговорами, а в основном говорящие только друг с другом, причем как только они начинали разговаривать между собой, Петров терял к ним всякий интерес, его слух лишь автоматически начинал отделять слова, которые были ему знакомы (простые, бытовые слова, которыми он и сам пользовался каждый день), от тех, которые были ему еще непонятны. Так было еще и с радиопередачами, и с телепередачами. Иногда можно было домыслить, что имелось в виду, по знакомым словам, которые окружали незнакомое слово. Если он слышал, например, «Курляндия», а вокруг было про принца, войска, которые вторглись на землю Курляндии, то Петров предполагал, что это какая-то маленькая страна. Петров знал, что его страна огромна, потому что об этом без конца отовсюду говорили. Словосочетания типа «сколько-то там центнеров с гектара» были ему настолько непонятны, что он и вовсе пропускал их мимо ушей.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов

