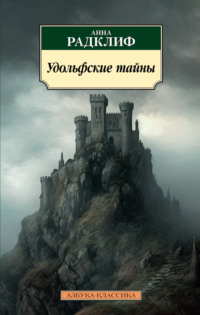
Удольфские тайны
Сердце его было полно; он не мечтал ни о каком ином счастье – что редко встречается на свете. Сознание того, что он живет по правде и совести, придавало ясности и спокойствия его душе и делало его способным ценить все окружающие его блага.
Часто глубокие сумерки заставали его под сенью любимого платана. Ему нравился этот тихий час, когда угасают последние лучи света, когда звезды одна за другой загораются в эфире, отражаясь в темном зеркале вод; час, который навевает на душу задумчивую нежность и порою возносит ее на вершины созерцания. Он любил наблюдать, как всплывала луна, проливая кроткий свет сквозь листву; он так долго засиживался под платаном, что иногда ему подавали туда его скромный ужин, состоявший из плодов или молока. Вдруг среди тишины ночной раздавалась чарующая песня соловья и пробуждала в сердце безотчетную грусть.
В первый раз счастье этой семьи, удалившейся от света, было нарушено смертью двух маленьких сыновей Сент-Обера. Из уважения к отчаянию жены Сент-Обер старался не выказывать своего горя и переносил его философски, однако, в сущности, никакая философия не могла доставить ему утешения в такой потере. Теперь у него оставалась в живых единственная дочь. С тревожной нежностью следя за развитием ее детской души, он неусыпно старался бороться с теми чертами и наклонностями, которые впоследствии могли помешать ее счастью: с раннего возраста она проявляла необыкновенную чуткость души, теплоту привязанности и доброе сердце, но вместе с тем у нее замечалась чересчур тонкая чувствительность, и это могло вредно отозваться на ней. С годами эта чувствительность придала оттенок грусти ее настроению, мягкость ее манерам и особую трогательную грацию ее красоте. Но Сент-Обер, как человек разумный и дальновидный, не мог не понять, что такие качества хотя и очаровательны, но опасны для их обладательницы. Поэтому он старался укрепить ее ум, приучить ее владеть собою, не поддаваться первому побуждению своего чувства и встречать разочарования с хладнокровной осмотрительностью. Научая ее не увлекаться первым своим впечатлением, приобретать ту стойкую твердость духа, которая одна может служить противовесом нашим страстям и поставить нас – насколько это совместимо с нашей натурой – выше обстоятельств, он сам учился выдержке, потому что часто ему приходилось смотреть с кажущимся равнодушием на слезы и борьбу, вызванные у нее его уроками.
Наружностью Эмилия походила на мать: та же изящная правильность линий, та же тонкость черт, те же голубые глаза, полные кроткой прелести. Но главной, неотразимой ее привлекательностью было постоянно меняющееся выражение ее лица, по мере того как во время разговора пробуждались тончайшие чувства ее души.
Сент-Обер тщательно развивал ее ум. Он давал ей уроки по всем наукам и близко ознакомил ее с изящной литературой. Кроме того, он преподавал ей языки – латинский и английский, главным образом с той целью, чтобы она могла понимать красоты лучших произведений поэзии. С самых ранних лет она обнаружила врожденный вкус к прекрасному, а Сент-Обер считал за правило поощрять все то, что могло содействовать ее счастью. «Развитой ум, – говорил он, – есть лучшая охрана против заразы безумия и порока. Ум мало сведущий постоянно ищет развлечений и готов погрузиться в заблуждение, чтобы избегнуть томления лености. Обогатите этот ум идеями, научите его мыслить, и соблазны внешнего мира встретят противовес со стороны внутреннего мира. Мышление и образование одинаково необходимы для счастья и в сельской, и в городской жизни. В первом случае они устраняют неприятное ощущение лености и доставляют высокое наслаждение, пробуждая вкус к прекрасному и великому; во втором случае они делают рассеянную жизнь не столь необходимой и, следовательно, ослабляют интерес к ней».
С самого раннего возраста Эмилия обнаружила любовь к природе; притом ей больше всего нравились не блещущие красками мирные пейзажи. Она любила дикие лесные тропинки в горах, мрачные ущелья, где безмолвие и величие уединенности навевали священный трепет на ее душу и возвышали ее помыслы, направляя их к Творцу неба и земли… Там она часто подолгу оставалась одна, охваченная каким-то очарованием, до тех пор, пока не потухал последний луч заката и вечерняя тишина не нарушалась лишь одиноким колокольцем овец или отдаленным лаем сторожевой собаки. Тогда мрак леса, ветерок, шелестящий листвой, летучая мышь, мелькнувшая в сумерках, свет в хижинах, то появляющийся, то исчезающий, – все это трогало ее душу и пробуждало в ней восторг и поэзию.
Любимой целью ее прогулок была маленькая рыбачья хижина, принадлежащая Сент-Оберу, в лесистой долине на берегу речки, которая вытекала из Пиренеев, пенясь, пробивалась среди скал и затем безмятежно струилась по лесу, отражая в себе тенистые ветви. Над лесом, защищавшим долину, вздымались вершины Пиренеев, местами видные сквозь прогалины. Кое-где выделялся какой-нибудь дикий утес, увенчанный кустарником, или пастушья хижина, прилепившаяся к скале, под тенью темного кипариса. Сквозь прогалины леса открывался вид на далекий ландшафт, где роскошные пастбища и покрытые виноградниками склоны Гаскони полого спускались к равнинам; там, на извилистых берегах Гаронны, рощи, села и виллы с очертаниями, смягченными расстоянием, сливались вдали в одну роскошную гармоничную картину.
Этот домик был любимым убежищем самого Сент-Обера; он часто искал там защиты от полуденного зноя с женой, дочерью и книгами или приходил туда в тихий вечерний час послушать песню соловья. Иногда он приносил с собою музыкальный инструмент и будил далекое эхо нежными звуками гобоя; к ним зачастую присоединялся голос Эмилии, звонко разносившийся над водами горной речки.
В одну из таких экскурсий Эмилия заметила следующие строки, написанные карандашом на деревянной обшивке стены:
СОНЕТСпеши, мой карандаш! Послушный моим вздохам,Спеши поведать нимфе здешних мест,Когда раздастся звук ее шагов воздушных,Причину слез моих и скорби нежной!Изобрази ее прелестный образ,И взор ее, где светится душа,И лик задумчивый и кроткий,Улыбку грустную и грацию движений —Портрет тебе подскажет юноша влюбленный.О, выскажи ей все, что у него на сердце…Но нет, не всю ту грусть скажи, что в сердце он таит;Так, часто под шелковым лепестком цветкаТаится яд, что может искру жизни погубить,Но кто, глядя на эту ангельскую улыбку,Может бояться ее чар и думать, что она обманет!При стихах не было никакого посвящения, поэтому Эмилия не могла отнести их к себе, хотя, несомненно, она, а не кто другой, могла быть названа нимфой здешних мест. Перебрав в уме весь небольшой кружок своих знакомых, она не могла найти никого, кому бы эти стихи могли быть посвящены, и, таким образом, она осталась в неуверенности. Такая неуверенность была бы, может быть, тягостна для всякого праздного ума, но Эмилия не имела досуга придавать значение такому пустому случаю. Легкое тщеславие, возбужденное похвалами, скоро изгладилось, и она перестала об этом думать среди чтения, занятий науками и делами благотворительности.
Около того же времени Эмилия была встревожена нездоровьем отца; он захворал лихорадкой, хотя и не опасного свойства, но сильно изнурявшей его организм. Госпожа Сент-Обер и Эмилия с неусыпной нежностью ухаживали за больным. Выздоровление шло медленно; но когда наконец Сент-Обер начал поправляться, здоровье его жены, напротив, сильно пошатнулось.
Первое место, куда он направился, лишь только был в состоянии выходить на воздух, была его любимая рыбачья хижина. С утра туда послали из дома корзину с провизией, несколько книг и лютню Эмилии; рыболовных снарядов не требовалось – Сент-Обер никогда не находил удовольствия в том, чтобы мучить и истреблять животных.
Сперва занялись ботаникой, потом сели обедать; все радовались выздоровлению отца семейства и возможности побывать в своем любимом уголке. Сент-Обер разговаривал с привычным оживлением, все окружающее восхищало его.
Для здоровых людей непонятна та живительная радость, которую ощущает больной, очутившись среди природы в первый раз после долгих страданий и заточения в одной комнате. Зелень лесов и пастбищ, луга, испещренные цветами, ароматный воздух, журчание прозрачного ручья, даже жужжание малейшего насекомого в тени деревьев как будто возрождают душу и делают жизнь отрадой.
Госпожа Сент-Обер, радуясь веселости и выздоровлению мужа, забыла о собственном нездоровье; гуляя по лесным тропинкам романтической долины и беседуя с мужем и дочерью, она глядела на них с нежностью и со слезами на глазах. Сент-Обер замечал это и тихо укорял жену за излишнюю чувствительность, но она только улыбалась, жала руку мужу или Эмилии и не могла удержать слез. Он чувствовал, что и ему сообщается это растроганное умиление, острое до боли; тень печали омрачила его черты, и он подумал с тайным вздохом: «Когда-нибудь я с безнадежным сожалением буду вспоминать об этих минутах, как о вершине счастья! Дай Бог мне не дожить до того, чтобы оплакивать потерю существ, которые мне дороже жизни!»
Под влиянием своего настроения он попросил Эмилию принести лютню, на которой она умела играть с трогательным чувством. Подходя к рыбачьей хижине, она с удивлением услыхала звуки этого инструмента: чья-то рука исполняла печальную мелодию. Она стала слушать в глубоком молчании, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть музыканта. В домике было тихо и никто не показывался. Она продолжала слушать, но скоро восхищение ее сменилось легким испугом: ей вспомнились строки, написанные карандашом на стенке домика, и она не знала, что делать – идти ли в хижину или вернуться.
Покуда она колебалась, музыка замолкла. После минутной нерешительности она собралась с духом, направившись к рыбачьей хижине, вошла и увидала, что она пуста! Ее лютня лежала на столе, все казалось нетронутым, и ей уже представилось, не слыхала ли она звуки какого-нибудь другого инструмента, но вдруг вспомнила, что, уходя отсюда с отцом и матерью, оставила лютню на подоконнике, теперь же она очутилась на столе. Она встревожилась, сама не зная почему. Меланхолический вечерний полумрак, глубокая тишина, царившая кругом, прерываемая лишь легким шелестом листвы, усиливали ее жуткое чувство. Она хотела выйти из домика, но почувствовала дурноту и села. Случайно взгляд ее скользнул по строкам, начертанным карандашом на деревянной обшивке стены: она вздрогнула, точно увидала чужого человека, но подавила волнение и подошла к окну. К строкам, замеченным ею раньше, были прибавлены новые, где упоминалось ее имя.
Теперь, уже не сомневаясь, что стихи обращены именно к ней, она все-таки не могла догадаться – кто их автор. В эту минуту ей показалось, что она слышит шаги возле домика; в испуге она схватила свою лютню и поспешно убежала. Она нашла отца и мать гуляющими по тропинке по склонам долины.
Достигнув вершины зеленеющего холма, осененного пальмами, откуда открывался вид на равнины и долы Гаскони, они все трое уселись на траве. Пока любовались дивным видом и вдыхали аромат цветов и трав, Эмилия сыграла и спела несколько любимых мелодий со свойственным ей чувством и тонкостью выражения. Слушая музыку и тихо беседуя между собою, они замешкались в этом живописном местечке до тех пор, пока последний луч солнца не погас над равниной: потускнели белые паруса, скользившие по Гаронне у подножия гор, и вечерние тени окутали всю местность. Настала тьма, печальная, но не лишенная приятности. Сент-Обер и его семейство встали и с сожалением покинули холм. Увы, госпожа Сент-Обер не подозревала, что никогда больше не увидит его!
Дойдя до рыбачьей хижины, она заметила, что потеряла браслет, и вспомнила, что сняла его с руки после обеда и оставила на столе, когда пошла гулять. После долгих поисков, в которых Эмилия принимала деятельное участие, госпожа Сент-Обер принуждена была смириться с потерей браслета. Он был ей особенно дорог потому, что в него был вделан миниатюрный портрет дочери, поразительно похожий и лишь недавно написанный. Когда Эмилия убедилась, что браслет действительно пропал, она вспыхнула и задумалась. Что входил кто-то чужой в рыбачью хижину во время ее отсутствия, это она еще раньше знала благодаря случаю с лютней и строками, набросанными карандашом. Из смысла этих строк можно было заключить, что поэт, музыкант и вор – одно и то же лицо. Но хотя слышанная ею музыка, стихи на стенке и исчезновение портрета представляли замечательное стечение обстоятельств, что-то удерживало ее от упоминания об этих фактах. Однако про себя она решила никогда больше одной не посещать рыбачий домик.
Тихо побрели они домой. Эмилия размышляла о только что случившемся. Сент-Обер с чувством спокойной благодарности думал о том счастье, какое послала ему судьба, а госпожа Сент-Обер была несколько опечалена и встревожена потерей портрета дочери. Подходя к дому, они заметили вокруг него необычайное движение и суету: перекликались голоса, люди и лошади мелькали меж деревьев и наконец застучали колеса перед фасадом замка. На лужайке они увидали ландо, запряженное взмыленными конями. Сент-Обер узнал лицо своего родственника и в сенях встретился с господином и госпожой Кенель, уже входившими в дом. Они выехали из Парижа несколько дней тому назад и теперь находились на пути в свое имение, отстоявшее всего на десять миль от «Долины» и приобретенное ими за несколько лет до этого у Сент-Обера. Кенель был единственный брат госпожи Сент-Обер; но так как, несмотря на близкое родство, между обеими семьями не было ни дружбы, ни симпатии, то сношения между ними не были часты. Кенель вел светскую жизнь; цель его была достигнуть высокого положения в обществе, а вкусы направлены к роскоши и блеску. Ловкость его и знание людей помогли ему достигнуть почти всего, о чем он мечтал. Неудивительно, что подобный человек не мог оценить Сент-Обера; тонкость вкуса, простота и умеренность в желаниях считались им признаками недалекого ума и ограниченных взглядов. Брак сестры его с Сент-Обером был ему неприятен: он рассчитывал, что ее замужество поможет ему в его честолюбивых замыслах. Действительно, у нее было перед тем несколько женихов, сановных и богатых, отвечавших его пылким надеждам. Но сестра его, за которой тогда ухаживал и Сент-Обер, поняла, что счастье и блеск не одно и то же; она не колеблясь пожертвовала этим блеском для достижения истинного счастья. Так ли думал Кенель или иначе, но он готов был принести в жертву благополучие сестры для удовлетворения своего собственного честолюбия; и когда она вышла за Сент-Обера, он не стесняясь высказал ей, как презирает ее нелепый выбор. Госпожа Сент-Обер хотя и скрыла от мужа это оскорбление, но в глубине сердца затаила горькую обиду на брата. С этих пор в их отношениях установилась холодность; брат это замечал и чувствовал.
В своем собственном браке он не последовал примеру сестры. Жена его была итальянка и богатая наследница, а по природе и воспитанию – женщина пустая и легкомысленная.
Кенели, посетив Сент-Обера, решили в этот день остаться у него ночевать, а так как в замке не нашлось места для слуг, то их отправили в ближайшую деревню. После первых приветствий завязалась беседа, в которой Кенель щегольнул своим остроумием и похвастал светскими связями. Сент-Обер, уже достаточно долго пробывший в уединении, чтобы отвыкнуть от этих тем, несмотря на это, слушал его терпеливо и внимательно, и Кенель остался в уверенности, что пустил пыль в глаза своему собеседнику. Из-за смутного времени при дворе Генриха III было тогда мало пиров, но те немногие празднества, что происходили там, Кенель описывал с мельчайшими подробностями, не упуская случая прихвастнуть. Но когда он завел речь о герцоге Жуайезе, о тайном договоре, якобы заключаемом с Портой, и о том, как смотрят при дворе на Генриха Наваррского, – Сент-Обер наглядно убедился, что его гость мало смыслит в политике и вообще не занимает того положения, каким кичится. Кенель выражал такие мнения, что Сент-Обер избегал спорить с ним, поняв, что его гость не способен чувствовать и понимать, что хорошо и справедливо. Тем временем госпожа Кенель изливалась перед госпожой Сент-Обер, удивлялась, как она может проводить жизнь в такой «берлоге», и с очевидным желанием возбудить ее зависть расписывала пышность балов, банкетов и церемоний, только что происходивших при дворе по случаю бракосочетания герцога Жуайеза с Маргаритой Лотарингской, сестрой королевы. С одинаковой подробностью она изображала и те празднества, которые сама видела, и те, на которые не попала. Живая фантазия Эмилии, с юношеским любопытством слушавшей эти рассказы, еще дополняла и украшала их. А госпожа Сент-Обер, глядя на свою семью, со слезами на глазах думала, что действительно богатство и роскошь могут украсить счастье, но создать прочное счастье способна одна лишь добродетель.
– Скоро двенадцать лет, не правда ли, Сент-Обер, как я приобрел ваше родовое имение? – сказал Кенель.
– Да, около того, – подтвердил Сент-Обер, подавляя вздох.
– Вот уже пять лет, как я не бывал там, – продолжал Кенель. – Париж и его окрестности – единственное место в мире, где можно жить. Я так погружен в политику, у меня столько важных дел на руках, что мне трудно отлучиться хотя бы на месяц или два.
Сент-Обер молчал, и Кенель заговорил снова:
– Не понимаю, как вы, несмотря на то что живали в столице и привыкли к обществу, можете существовать в другом месте, а в особенности в такой глуши, как здесь, где ничего нельзя ни видеть, ни слышать – словом, где вовсе и не ощущаешь жизни.
– Я живу для себя и для семьи, – возразил Сент-Обер, – теперь только я узнал счастье – с меня этого довольно. Прежде и я знал жизнь.
– Я намерен истратить тридцать – сорок ливров на разные переделки в замке, – объявил Кенель, как будто не замечая слов Сент-Обера, – потому что будущим летом хочу пригласить сюда месяца на два своих друзей, герцога Дюрефора и маркиза Рамона.
На вопрос Сент-Обера, в чем будут состоять эти переделки, Кенель отвечал, что он снесет весь восточный флигель замка и возведет на его месте ряд конюшен.
– Затем я пристрою, – продолжал он, – еще гостиную, столовую и, наконец, ряд комнат для прислуги – теперь мне некуда поместить и третьей части моего собственного штата.
– Помещалась же там прислуга моего отца! – заметил Сент-Обер, огорченный мыслью, что старинное здание будет переделано, – а штат у отца был немалый.
– Наши понятия несколько развились с тех пор, – сказал Кенель, – что тогда считалось приличным образом жизни, теперь уже никуда не годится!
Даже спокойный Сент-Обер вспыхнул при этих словах, но гнев его скоро сменился презрением.
– Местность вокруг замка загромождена деревьями, – добавил Кенель, – часть их я хочу вырубить.
– Как! И деревья вырубить! – воскликнул Сент-Обер.
– Ну разумеется. Почему же и нет: деревья загораживают вид. Там есть каштан, который своими ветвями заслоняет весь южный фасад замка, – он такой старый, что, говорят, в дупле его может поместиться человек двенадцать. Вы и сами со своей восторженностью вряд ли не согласитесь, что нет ни красы, ни пользы от такого отжившего, ветхого дерева!
– Боже милостивый! – возмутился Сент-Обер. – Неужели вы решили погубить этот благородный каштан, вековую гордость имения! Он был в цвете лет, когда строился дом. Как часто, бывало, в юности я лазил по его могучим ветвям, помещался, как в беседке, среди его густой листвы, и когда дождь лил ливнем – ни одна капля не попадала на меня! Как часто я сиживал там с книгой в руке, то читая, то любуясь из-за ветвей на окружающий пейзаж, на заходящее солнце, до тех пор, пока не наступали сумерки, загоняя птичек домой в их гнездышки среди густой зелени! Часто бывало… Однако, простите, – спохватился Сент-Обер, вспомнив, что он говорит с человеком, который не мог ни понимать, ни одобрять его чувств, – я говорю о временах и чувствах старосветских, как та жалость, которая побуждает меня скорбеть об этом почтенном дереве.
– Конечно, оно будет срублено, – решил Кенель, – я думаю насадить в каштановой аллее несколько ломбардских тополей. Моя жена очень любит тополя, она говорит, что они замечательно украшают виллу ее дяди в окрестностях Венеции.
– На берегах Бренты, еще бы! – сказал Сент-Обер. – Там тополя со своей пирамидальной формой рядом с пиниями и кипарисами, осеняя легкие, изящные портики и колоннады, бесспорно, украшают вид, но среди исполинов леса, возле массивного готического здания…
– Прекрасно, милый мой, – прервал его Кенель, – я не стану спорить с вами. Вы должны непременно сперва побывать в Париже, и только тогда мы с вами столкуемся. Но, кстати, о Венеции: я имею намерение отправиться туда будущим летом. События, может быть, так сложатся, что я сделаюсь обладателем этой самой виллы. Мне рассказали, что прелестнее ее ничего нельзя себе представить! В таком случае я отложу упомянутые перестройки в замке до будущего года. Может быть, я соблазнюсь остаться в Италии на долгое время.
Эмилия несколько удивилась, услыхав, что он говорит о намерении остаться за границей, после того как уверял, будто его присутствие в Париже так необходимо, что он с трудом мог вырваться оттуда на месяц или на два. Но Сент-Обер слишком хорошо знал бахвальство этого человека, чтобы удивляться его словам: возможность отсрочки проектируемых перестроек подавала ему надежду, что они так никогда и не осуществятся!
Прежде чем разойтись на ночь, Кенель пожелал переговорить с Сент-Обером наедине. Они удалились в соседнюю комнату и оставались там продолжительное время. О чем был разговор – никто не знал; как бы то ни было, Сент-Обер, вернувшись в столовую, казался расстроенным. Тень грусти по временам отуманивала его черты, и это тревожило госпожу Сент-Обер. Когда муж с женой остались одни, ей захотелось спросить о причине его озабоченности, но удерживала деликатность, всегда отличавшая ее поступки. Она рассудила, что если бы Сент-Обер желал сообщить ей о причине своего беспокойства, то он не стал бы ждать ее расспросов.
На другой день перед отъездом Кенель имел вторичный разговор с Сент-Обером.
Гости, пообедав в замке, выехали, пользуясь прохладной порой дня, в свое имение Эпурвилль и на прощанье усердно приглашали к себе всю семью Сент-Обер. В сущности, им не столько хотелось доставить удовольствие друзьям, сколько похвастаться перед ними своим великолепием.
После их отъезда Эмилия с радостью вернулась к своим обычным занятиям, прогулкам, беседам с отцом и матерью, которые тоже не менее нее радовались, избавившись от своих тщеславных и заносчивых гостей.
Госпожа Сент-Обер, жалуясь на легкое недомогание, отказалась от обычной вечерней прогулки, и Сент-Обер с дочерью отправились одни.
Они выбрали дорогу, ведущую в горы, намереваясь посетить нескольких старых пенсионеров Сент-Обера, которым он ухитрялся уделять пособия из своего скудного дохода.
Раздав бедным их еженедельный паек, терпеливо выслушав жалобы некоторых из них, смягчив их горести и недовольство добрым словом сочувствия и сострадания, Сент-Обер вернулся домой через лес.
– Люблю я этот вечерний сумрак в лесу, – молвил Сент-Обер, душа которого наслаждалась дивным спокойствием от сознания совершенного доброго дела. – Помню, еще в юности этот сумрак вызывал в моем воображении целый рой волшебных видений и романтических образов. Признаюсь, я и теперь не совсем нечувствителен к тому высокому энтузиазму, который будит мечту поэта, я способен подолгу задумчиво бродить в мрачной тени, вглядываться в сумрак и с восторгом прислушиваться к мистическому шепоту леса.
– Ах, милый отец, – сказала Эмилия с внезапно навернувшейся слезой, – ты описываешь как раз то самое, что я сама чувствую так часто, думая, что эти грезы свойственны мне одной! Но слушай! Как ветер зашумел в верхушках деревьев! Как торжественна наступившая затем тишина! А вот снова повеял бриз, словно голос лесного духа, что сторожит лес по ночам. Но что за огонек мелькнул вдали? Исчез… а вот он снова появился у корня того старого каштана… Гляди, отец!
– Ты такая любительница природы, – сказал Сент-Обер, – а не узнала светлячка? Однако пойдем дальше; может быть, увидим фей – они бывают иногда его спутницами. Светлячок дает свет, а они чаруют его музыкой и пляской.
Эмилия усмехнулась.
– Хорошо, папа, – сказала она, – если ты допускаешь такой союз фей со светлячком, то сознаюсь, что я предупредила твою мысль и, пожалуй, решусь прочесть тебе стихи, сочиненные мною однажды вечером в этом самом лесу.
– Решайся, отбрось колебание: послушаем причудливую игру твоей фантазии. Если она наделила тебя чарами, то тебе нечего завидовать и феям.
– Если моей фантазии удастся очаровать твой ум, – сказала Эмилия, – то, конечно, мне не стоит завидовать феям.
И пока они шли по лесу, она прочла отцу сочиненную ею поэму о светлячке и о лесных феях.
СВЕТЛЯЧОКОтрадна тень в лесу на мягкой мураве зеленойВ летний вечер, когда пройдет освежающий дождь,Когда косые золотистые лучи сверкают сквозь листвуИ в разреженном воздухе реет легкокрылая ласточка!Но еще прелестнее наблюдать, как солнце отходит на покой.Наступят сумерки, и веселые феиЗапляшут по лесным тропинкам, где цветыНе склоняют своих гордых головок под их резвыми играми.При звуках нежной музыки они танцуют до тех пор,Пока не взойдет луна и луч ее, пронизывая трепещущую листуИ бросая светлые блики на землю, не направит фей в ту чащу, где тоскует соловей.Там они перестают плясать, пока не замрет песнь грустная его, —Безмолвные, как ночь, внимают они песне.И вот, растроганные сладкою мелодией,Они клянутся соловью, что будут охранятьПриют его священный от вторжения людского.Когда звезда вечерняя опустится за горыИ томная луна покинет свод небесный,Как станет грустно им, хотя они и феи,Если не подоспею я со своим бледным фонарем,И хотя им было б грустно без меня, но они неблагодарны, любви моей не ценят.Порою, когда путник запоздает в лесуИ я попадусь ему на пути, желая посветить ему и помочь выбраться из леса,Они своими волшебными чарами заставляют меня сбить его с дорогиИ бросить его в грязи, покуда не потухнут звезды.Тогда они начнут мелькать пред ним в причудливых образахИ подымают заунывный вопль в лесу,Тогда я в ужасе забиваюсь в свою норку.Но вот, глядите! Крошечные феи вьются в хороводеПод веселые звуки труб, рогов, и тамбуринов,И звонких дудок, и нежной лютни.Пляшут они вокруг дуба – пока не взойдет утренняя заря.Вон крадется в прогалине влюбленная чета, стараясь избежать царицу фей,Которая злится на их нежные чувства и ревнует меня.Вчера я ввечеру светил им в темноте, в траве росистой,Когда они искали алый цвет, чей сок способен избавить их от ее волшебных чар.Чтоб наказать меня, царица держит вдалеке свой резвый ройС веселой музыкою труб, лютней, тамбуринов,И если я приближусь к дубу, то она махнет своим волшебным жезлом —Танцы прекратятся и музыка замолкнет.Ах, если б мне добыть тот алый цвет, чей сок способен победить ее чары,И если б я умел извлечь тот сок и пустить его по ветру,Я перестал бы быть ее рабом и путников морочить,А стал бы помогать влюбленным, не боясь волшебниц.Но скоро рассеется туман в лесу,Погаснет бледная луна, исчезнут звездыИ станет грустно им, хотя они и феи,Без тусклого сиянья моего.Что бы ни думал Сент-Обер об этих стихах, он не мог отказать своей дочери в удовольствии надеяться, что он одобряет их. Похвалив ее поэму, он погрузился в задумчивость, и оба молча продолжали путь, пока не достигли замка. Госпожа Сент-Обер уже удалилась на покой. За последние дни она чувствовала слабость, недомогание и через силу перемогалась ради гостей; зато она теперь совсем расхворалась. На другой день у нее появились лихорадочные симптомы. Сент-Обер призвал доктора, и тот определил, что больная страдает той же горячкой, от которой он сам недавно оправился. Она заразилась, ухаживая за мужем, ее слабая натура не в силах была противостоять заразе, которая вызвала тяжелое изнурение. Сент-Обер удержал врача у себя в доме. Он вспомнил те чувства и размышления, которые томили его сердце в тот день, когда он в последний раз посетил рыбачий домик вместе с женой, и у него явилось предчувствие, что эта болезнь будет иметь роковой исход. Однако он скрыл это впечатление от больной и от своей дочери, стараясь, напротив, поддерживать в ней надежду, что ее неусыпный уход не останется напрасным. На вопросы Сент-Обера доктор высказал мнение, что исход болезни зависит от многих обстоятельств, которых он не в силах предвидеть. Но, сама больная, по-видимому, твердо знала, к чему дело клонит, и это можно было прочесть по ее глазам. Она часто устремляла взор на своих встревоженных родных с выражением жалости и нежности, как будто предвидела ожидавшую их печаль; ее взгляд, казалось, говорил, что только ради них она сожалеет о жизни. На седьмой день наступил кризис. У доктора было очень озабоченное лицо; она это заметила и, воспользовавшись минутой, когда ее родные вышли из комнаты, сказала ему, что она предчувствует близкую кончину.