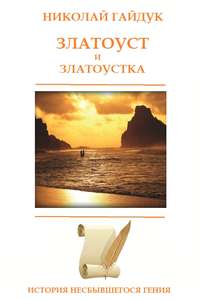
Златоуст и Златоустка
«Краше в гроб кладут! – Он отвернулся от зеркала. – Что-то я расквасился. Но ничего! Переживём, перекуём мечи на калачи!» Подсев поближе к свету, он стал читать потрёпанную Библию, во многих местах подчёркнутую грубым дедовским ногтем, похожим на тупое лезвие ножа.
«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что хорош; и отделил Бог свет от тьмы…»
Подкидыш зевнул. Библия показалась откровенно скучной; безалаберный парень, он тогда ещё не знал, что такие книги читаются не глазами, а сердцем. Закрыв потрёпанную Библию, он задумался, глядя на багрово-синий лепесток свечи: «Интересно, как это Бог свет отделил от темени? Да побасёнки это!» Глядя на чёрный фитиль, поедаемый пламенем, Ивашка вспомнил чёрную горелую заимку на поляне; вспомнил царские кудри – сказочные цветы, которые будто бы выросли на месте волоска, упавшего с головы ненаглядной царевны. «А это разве не побасёнки? Эти кудри… – Парень засомневался. – А разве могут вырасти, к примеру, кукушкины слёзы – цветы – возле того дерева, где куковала-плакала кукушка?»
Он осторожно достал из короба царские кудри – глубоко вдохнул цветочный аромат и с трудом сдержался, чтобы не заплакать; сердце больно дёрнулось, точно загораясь от любви, от нежности, от горя и отчаянья. «Где теперь искать? Да и найдёшь ли? – бились-колотились мысли в голове. – Всё сгорело! Всё прахом пошло! Утоплюсь!.. Напьюсь!..»
И опять он попытался Библию читать – и опять захлопнул. Причём захлопнул с такою силой, что потоком воздуха от книги пламя над свечою повалило набок. Огонёк затрепетал, норовя подняться – и погас. И тогда Подкидыш с каким-то странным удовольствием задул две другие свечи – и в комнату ввалилась темнота вперемежку с гробовою тишиной. И чёрный-чёрный крест вознёсся в головах – оконная рама. «Вот умру я, умру, похоронят меня…» – закрутился унылый мотив.
Он прилег на постель, руки сделал замком на груди – как покойник. Сердце гулко билось где-то под руками, а он – угрюмо и озлобленно – приказывал ему не биться. И удары становились реже, реже. И стало вдруг не по себе, аж морозец по хребту царапнул. Не в силах лежать в этой тёмной и страшной «могиле», он торопливо пошёл во двор, ногу больно ушиб о железную какую-то фиговину – батя вечно таскает с кузни, бросает, где попало.
«А может, надо мне туда вернуться? – Пламя в горне вспомнилось, перезвоны молотков и шумное дыхание кожаных мехов. – Хорошо там было. Зачем забросил? Зачем с суконным рылом полез в калашный ряд?..»
На дворе было свежо, пряно пахло травами, цветами в палисаднике; черёмуха в белом стояла – заневестилась на бугорке; река за огородами журчала жаворонками; умиротворённо спали соседние избы, амбары. И от сознания того, что всё кругом так славно и так приятственно – ещё хуже становилось, горше. Лучше бы камни кубарем падали с небес, лучше бы молния кромсала темноту, сжигала бы высокие деревья – всё как-то легче было бы…
Парень устыдился этих мыслей.
«О, господи, прости, ну что за глупость? – Он посмотрел на небо. – Переживём как-нибудь! Перекуём мечи на калачи!»
Не зная, что делать, куда себя деть, он бесцельно покружился по двору и неожиданно упёрся лбом в чёрную бревенчатую стену сарая, за которой впросонках захрюкала и завозилась жирная свинья. Тоскливое отчаянье охватило душу; вот как надо жить, любить свою кормушку, чавкать день и ночь, и никогда, никогда не смотреть в небеса, не соблазняться мечтами, стихами. С каждой минутой слабея – не столько телом, сколько духом – Подкидыш на берег ушёл, сел на перевёрнутую лодку и застонал, обеими руками охватывая голову. Слёзы, падая на лодку, тускло мерцали под звёздами и сами порою казались звёздочками, крохотно дрожащими в глубинах мирозданья…
5Глухотемень была ужасная. И в этой глухотемени будто кто-то пластинку завёл по-над ухом: «Вот умру я, умру, похоронят меня…» Тоска тисками сдавила сердце. Леса, поля и горы, и долины – всё кругом опустело, осиротело без царевны Златоустки. И птицы разучились петь, и вода в ручьях и река разучилась бежать. И в небесах как будто чёрная дыра, кровоточащая холодной кровушкой рассвета. И в сердце тоже сквозная рана стонет, ноет и непонятно как, и неизвестно чем заполнить можно эту пустоту, дыру вселенскую – огромное кольцо, которому ни края, ни конца.
Парень вздрогнул, вспомнил два золотистых кольца, связанных стальною паутинкой. Вернулся в дом, в котором было пусто – работники рано вставали и расходились. «А где же кольца? – Он в недоумении осмотрел свой закуток. – Что за чертовщина? Вот здесь висели. Странно! Может, мамка подцепляла колечки, а потом забрала? Только зачем ей это?» Он вспомнил, как в детстве ячмень сводили с глаза колдовством золотого кольца. Мать говорила, нужно десять раз золотым обручальным кольцом провести по ячменю.
Встающее солнце уронило уголёк на половицы – первый луч в окошко прострелил. И вспомнился волшебный уголёк, который найден был на пепелище. Как тот уголёк попал на Золотое Устье? Кто, если не батя, владеет целой россыпью таких угольков?
А если ещё вспомнить, что он тишком, тайком работает на сатану, курные лапы куёт для избушки.
Скулы Подкидыша затвердели. Он пошёл на кузню. Надо было срочно поговорить с отцом – это во-первых, а во-вторых, как хорошо бы сейчас поработать на кузне. У горячего горна, бывало, всякая грусть пропадала, разбитая молотом, все дурные мысли улетучивались.
Берёзовый лесок, стоящий на пути, был переполнен соловьиными звонами – долетали из кузницы. Рабочий и одновременно праздничный звон-трезвон порождал многократное эхо, в березняке игравшее десятками и сотнями молотков с молоточками.
«Кузнецарь! – уважительно говорили в деревне. – Кузнецарство наше звонит в колокола!»
Остановившись на пригорке, с которого кузница видна, Подкидыш догадался по железным голосам и подголоскам: кузнецарство звонило в четыре руки. И вскоре он убедился в этом, когда остановился на пороге. И завидно стало, и обидно; так всегда бывает с человеком, когда он возгордится и возомнит себя незаменимым, а там, глядь-поглядь, тебе нашлась замена, да нашлась так быстро, что даже зло берёт. Вот так и получилось, когда Подкидыш дверью хлопнул, ушёл из кузницы. Великогроз Горнилыч, недолго думая, нашёл себе отменного молотобойца – молодого, плечистого, с волосатыми и длинными руками, с чёрными глазами, искрящимися как уголья, вынутые из горна. Огненно-рыжая, густая борода молотобойца тоже была точно из пламени горна добытая. Молотобоец этот, Фрол, бывший охотник, охромел где-то в горах, в тайге, ходок стал никудышный, а вокруг наковальни топтался – точно вокруг милой барышни под звонкую музыку пляски.
Горя глазами и пылая рыжей бородой, Фрол азартно помогал месить на наковальне красно-малиновый кусок бесформенного, железного теста. И сразу было видно – сработались они, окаянные, с полуслова, с полувзгляда понимали друг друга. Звоны с перезвонами по кузнице порхали и кружились – только огненные брызги сыпом сыпались по сторонам. Это была не работа – это мужики священнодействовали.
Молотобоец, мельком заметив Подкидыша, в знак приветствия тряхнул своим «бородатым огнём» и крепкие зубы оскалил, изображая зверскую улыбку шибко занятого человека. А Великогроз Горнилыч, тот вообще сделал вид, что не замечает «постороннего».
Раскрасневшийся вдохновенный кузнец был в эти минуты величав, прекрасен: ремешком перетянутый лоб; рукава закатаны по локоть; длинный, словно жестяной, рабочий фартук.
Готовая поковка – продолговатая, малиново-сизая, похожая на хариуса – нырнула в деревянную бадью; вода запузырилась, зашипела. Теперь можно было и перекурить, но Великогроз Горнилыч грозно что-то крикнул и звероподобный молотобоец на полусогнутых побежал за новой заготовкой.
– Батя! – начал Ивашка. – Здесь паутина была, мною откованная…
– Посторонись! – рявкнул отец, поворачиваясь к нему широкою, как дверь, спиной, мокрой от пота.
Парень понуро стоял в стороне, как оплёванный. А эти двое – мастер с подмастерьем – опять они звенели и гремели молотками и молоточками, азартно и слаженно перезванивались, и ни конца, ни края не предвиделось этому буйному перезвону. «Батька теперь закусил удила, – понял парень, – нарочно будет колотить, покуда не уйду…»
– Ты угольки свои… – прокричал на ухо кузнецу, – угольки давал кому-нибудь?
Отец отчаянно сверкнул глазами.
– Черту давал! Прикурить!
– Я серьёзно спрашиваю, тятя…
– Иди! – снова рявкнул отец, по-волчьи оголяя зубы. – Полетай на коврах-самолётах!
Подкидыш понуро поплёлся домой, но оказался почему-то километрах в десяти от дома – в посёлке Босиз. Он потом вспоминал, только вспомнить не мог, когда и где, и с кем хватанул первую рюмку огненного зелья. «Если бог кому не дал ума, тому уже кузнец не прикуёт!» – думал он после, жестоко страдая с похмелья и вознамериваясь утопиться, но это потом, а поначалу было, ой, как весело.
Глава девятая. Душа болит, а сердце плачет
1Зеленоватый старинный штоф начал разрастаться перед глазами – глыба льда увеличилась до размеров стеклянной горы. И вдруг оттуда выпрыгнул Змей Горыныч, извергая пламя из поганой пасти. Подкидыш поначалу растерялся, а затем шарахнул кулаком по столу, призывая к порядку. И Змей Горыныч, как ни странно, послушался. Он прикинулся невинным Зелёным Змием – беззаботный эдакий рубаха-парень. Рожа у парня была бледно-зелёная и только нос, похожий на фигу, красновато-сизый. Руки мелко подрагивали. Брючата и пиджак пошиты из разных винно-водочных этикеток большого размера, местами изрядно потёртых. Блестящие пуговки на пиджаке – металлические пробки от бутылок.
– Ванюша! Дорогой мой! – затараторил рубаха-парень, разливая по стаканам и по полу. – Как я рад нашей встрече! Давай, брат, для начала сделаем опрокидонт. Что это такое? Не знаешь? Русская старинная забава. Хе-хе… Опрокидонт – рюмка водочки, которую мы сейчас опрокинем в душу мать. Хэ-хэ. Сначала осторгамимся, потом остаканимся, а следом за тем ографинимся.
Трескотня эта Ивашке не понравилась.
– Балабол! Ты кто такой?
– Тебе показать винный паспорт? Или ты мне на слово поверишь? – Нагловатый тип запанибрата хлопнул Простована по плечу, а затем протянул пятерню, дрожащую, хилую, потную. – Я – Зеленозмийцев. Звать меня Зерра. Или просто – Зеро. Ну, давай за знакомство.
Подкидыш тогда ещё не знал, что Зеро – это просто «ноль», пустое место. Тогда показалось: Зеро или Зерра – так романтично, так загадочно звучит. Зеро представился ему приятным парнем, красноречивым, умным собеседником, ну, то бишь, собутыльником.
– Теперь ты – мужик! Настоящий мужик! – Зерра обнимал его, поздравлял с почином. – Бабам – квас. А мужикам – давай покрепче. Мы же не какие-то квасные патриоты, верно? Давай, брат, за тебя! За бескорыстную дружбу мужскую! Теперь я всегда буду рядом. Как только горе у тебя, или какая радость – ты только гикни-свистни, я мигом появлюсь.
– Спасибо, я уж как-нибудь один, – отказался парень, – переживу, перекую мечи на калачи.
– Одному – хреново. Одному – беда, – елейным голосочком стал убеждать собутыльник. – Один, как говорится, и возле каши загинул. А на миру, как говорится, и смерть красна. Так наш народ говорит. А народ – ого! Народ наш – Златоуст. Я с ним, с народом-то, люблю посидеть за столом, побеседовать. А ты ведь парень из народа. Так? Значит, тебе, Иван Великоросыч, самая прямая дорога в златоусты! Читал твои перлы, читал.
– Да какие там перлы? Правильно дед говорит: только перловую кашу сварить. В Стольнограде так накостыляли…
– А кто там? – Зерра подлил в стакан. – Тот, который бреет уши? Или кто? Да что они, паскуды, понимают? Они от зависти… Да я их знаю, Ваня, знаю, как облупленных. Я же с ними пил сто раз, чуть язву, бляха-муха, не заработал. Из этих бездарей, между нами говоря, не получилось ни поэтов, ни прозаиков, вот они и сели в кресла критиков, да в кресла литконсулов. Там же одни сплошные неудачники сидят, и срок у них пожизненный, вот что печально.
Зеленозмийцев ни на секунду не замолкал, и вскоре это пустословие стало докучать; парню хотелось побыть одному, погрустить-подумать о своей царевне, о жизни вообще.
– Тебе какого, Зерра… – раздражился парень. – Заткнись!
– Запросто! – Зеленозмийцев вынул из кармана пробку от вина – рот себе заткнул.
Изумлённо глядя на него, парень расхохотался.
– Молодец! Я рад, что мы друг друга понимаем!
– Да как же не понять? – вынимая пробку изо рта, опять затараторил собутыльник. – Да мы же с тобою, можно сказать, братья по крови! Нет, я не хочу сказать, что у тебя вино в крови или водка, или самогон… Нет, нет! Я в том смысле, что… давай-ка сделаем опрокидонт…
Всё больше мрачнея от болтовни, Простован кулаком по столу припечатал.
– А не пошёл бы ты?..
И опять Зеленозмийцев не только не обиделся – подпрыгнул от восторга.
– Правильно! Я пошёл за вторым пузырём!
– Не надо, хватит.
– Да где же хватит, брат мой? Да ты уж мне поверь! Мы же русские люди! Нам одного пузыря никогда не хватает для полного счастья!
– Ты хочешь сказать, – Подкидыш пощёлкал грязным ногтем по стакану, – счастье в этом?
– По поводу счастья сказать не могу, – чистосердечно ответил Зерра, – а вот по поводу истины Плиний Старший мне говорил: In vino veritas – истина в вине.
Ошарашенный загадочной латынью, парень прошептал:
– Линий Страшный? А кто это?
Собутыльник сурово посмотрел на него, икнул и папироску вытащил из-за уха, где её вроде бы не было. Прикурив, Зерра на минуту пропал за облаками вонючего дыма.
– Был такой древнеримский учёный – Плиний Старший, – заговорило вонючее облако. – Двадцать четвёртый – семьдесят девятый годы нашей эры. Я любил с ним выпить, потрындеть. А иногда мы даже пели. Слушай, Ваня! А ты ведь здорово играешь, говорят, искры высекаешь из балалаечки…
От похвалы Ивашка подтаял – нетрезвую улыбку растянул от уха и до уха.
– А где инструмент? У тебя же тут одни сверчки за печкой.
– Почему? Ты с балалайкой пришёл. Вот, держи.
– И правда… – Простован изумился, глядя на старую отцовскую балалайку, лежащую на лавке. – А какую мы споём? «Мне море по колено, и облака по грудь» Эту, что ли?
– А давай, какую хош…
Прикрывая глаза, балалаечник стал пощипывать струны – звонкий, мягкий звук поплыл по комнате. Зеленозмийцев, блаженно жмурясь, склонился над столом и неожиданно грянул:
Душа болит, а сердце плачет,А тот, кто любит, слезу не прячет…Отбросив балалайку на кровать, Подкидыш не сдержался, – заплакал, опуская буйную головушку на грудь Зелёного Змия, который по-отечески обнял его и приласкал, в глубине души довольный тем, что Иван-царевич всё больше и больше становился похожим на обыкновенного Ивана-дурака. Эти пьяные слёзы очистили душу, облегчили. И пришло великое веселье. Не пришло, а прилетело – в буквальном смысле.
2В русской печи что-то приглушённо стрельнуло – чёрный дым клубками повалил, и неожиданно из этого дыма образовалась фигура большого чёрного ворона. Отряхнувшись от лохмотьев сажи, варначина вышел на средину комнаты, трижды каркнул и легко перекувыркнулся под потолком – и превратился в какого-то странного типа в белом, блистательном фраке. На голове у него красовалась складная шляпа-цилиндр под названием шапокляк. На длинном носу, похожем на клюв, крепко сидели чёрные очки в золотой оправе. В правой руке – с небрежной элегантностью – пропеллером вращалась белая тонкая тросточка в виде метлы, сверху которой был присобачен тёмный гранёный набалдашник – алмаз тёмной воды. Левая рука, сверкающая перстнем, трёхпалая крупная лапа человека-ворона,
– Позвольте представиться! – приподнимая белый цилиндр, прокаркал гость. – Воррагам!
– А по рогам? – Подкидыш стал рукава засучивать. Незваный гость, не дожидаясь приглашения, сел за стол, закинул ногу на ногу.
– Драться? Нет, зачем? У меня задача несколько иная.
Присматриваясь, Ивашка не сразу, но всё-таки вспомнил, где он видел варнака вот такого, нахально сидевшего нога на ногу.
– Так это ты? Зачем за мною давеча летел? Когда я шёл на Золотое Устье…
Поигрывая тросточкой, Воррагам усмехнулся.
– Я тебя сопровождал. Оберегал, чтобы волки не тронули, и вообще… Может, я твой ангел-хранитель, а ты на меня бочку катишь.
– Боже упаси! – Подкидыш стал пальцы складывать щепотью и руку медленно приподнимать.
Бледнея, Воррагам подскочил, едва не уронив складной цилиндр.
– Только не вздумай креститься.
– Ага! – Простован злорадно хохотнул. – Сдрейфил, дядя?
Ну, так и сиди, не мыркай, а то возьму да перекрещусь!
Воррагам, будто что-то вспомнив, неожиданно успокоился и опять, как барин, сел – закинул ногу на ногу.
– Не перекрестишься. Нет.
– Это почему же я не перекрещусь?
– А потому что гром ещё не грянул. Так в народе говорят. А народ у нас кто? Златоуст! – И Воррагам, изображая из себя профессора на кафедре, с важным видом чёрные очки поправил на остроклювом носу. – Ну, что, Иван-царевич, не надоело самогонку лакать? Может, пора на пленер собираться? На чистый воздух. Культурную программу пора осуществлять. Как думаешь?
Послушав незваного гостя, Подкидыш заинтересовался культурной программой, в которой принимали участие многие сказочные персонажи: и Спящая Царевна, и Царевна-Несмеяна, и Царевна-Лебедь и какой-то рыцарь-лебедь Лоэнгрин…
– А царевна Златоустка? Золотаюшка моя? Есть? Не врёшь? Ну, гляди, Воррагам, а то дам по рогам! – Глаза у парня возбуждённо заблестели. – Погоди, только маленько приоденусь… Только я не знаю, где мой гарде… гроб… И что это за хата? Где я есть?
– Какая разница! – Воррагам со скрипом открыл какой-то древний «гардегроб» и протянул расписную русскую рубаху – домотканую, льняную, чистую, приятно облегающую тело. Новые лапти, ещё не разношенные, маленько давили, но Воррагам сказал, что лапти разойдутся во время пляски.
Они за стол присели, тяпнули по стопке на посошок и заторопились куда-то по огороду в сторону реки. (Ивашка балалайку с собой прихватил). Остановившись на поляне за деревьями, Воррагам положил на пригорок пустую бутылку – специально взял со стола.
– Пропеллер есть, – поигрывая тросточкой, воскликнул. – А вертолёт найдётся!
3И началась такая чертовщина, от которой у Подкидыша в мозгах помутилось. Пустая бутылка – фантастически быстро! – начала разрастаться до размеров стеклянной кабины, куда они вошли через минуту, сели и даже пристегнулись какими-то ремнями безопасности. Воррагам уверенно угнездился на переднем сидении – место пилота. А пьяный пассажир плюхнулся на заднее. В кабине было тихо – где-то муха прожужжала. И вдруг Ивашка явственно услышал, как звонко засвистел-завертелся пропеллер в руках Воррагама – тонкая тросточка, с нижнего краю похожая на метлу. Тёмный набалдашник – алмаз тёмной воды – зловеще засверкал, фонтанируя искрами. И Воррагам неожиданно громко прокаркал: «От винта, собаки! От винта!» И от стеклянной кабины фантастического вертолёта испуганно отпрянули две бездомных собаки, до сей минуты беспечно дремавшие в лопухах. А пропеллер в руках Воррагама продолжал наращивать сумасшедшую скорость. Чёрно-серебристый винт, рисуя в воздухе широкий и правильный круг, стремительно посвистывая, поднял над поляной пыльную бурю, – это был «чёртов столб» или «чёртова свадьба», как говорят в народе. Этот вихорь подхватил стеклянную кабину, раза три перевернул кверху тормашками и понёс куда-то в облака. И перед глазами пассажира замелькали река, дома и горы – всё пересыпалось, как в детском калейдоскопе. И страшно, и весело было Ивашке. И Воррагам хохотал, поворачиваясь к нему.
– Ну, как? Полёт нормальный? Это, конечно, не Ту-134, но ничего, с пивком пойдёт…
– Ничего, ага, только трясёт!
– Это с похмелья. Абстинентный синдром.
– Аэродром? А где аэродром? Я не вижу…
– Турбулентность! – снова загнул Воррагам какое-то странное слово. – Воздушные ямы. Всё никак их не заровняют. И мне всё некогда. Хэ-хэ. Это мы ещё с Демоном, помню, летали над грешной Землёй и спотыкались вот на этих колдобобинах…
– С кем летали? С Димкой? А кто это?
– Демон. Старший брат мой. Я как-нибудь расскажу про него, а теперь не надо отвлекать, а то ещё на… навернёмся. Мне-то ничего, я же бессмертный, а ты, Иван, пока ещё простой…
Потоки ветра свистели за стеклянной кабиной, да и уши заложило с непривычки – парень плохо слышал Воррагама. И почти не видел ничего вокруг – фантастическая посудина залетела в грозовую облачность. Пассажир закрыл глаза и прикимарил минут пятьсот на каждый глаз, как шутил он позднее, стараясь припомнить, где они летели, как летели: высоко ли, низко, далеко ли, близко? Проснулся Подкидыш, когда они благополучно приземлились в каком-то тёмном тридевятом царстве.
Собираясь поинтересоваться, куда прилетели, Подкидыш так и застыл с раззявленным ртом.
Вечерняя земля неподалёку затрещала по швам и стала разверзаться – куски чернозёма, трава и цветы, кусты и деревья полетели в разные стороны. И перед Ивашкой вдруг возникла избушка на курьих ножках. В низеньком кривом окне горела керосиновая лампа, золотистым клином освещая старое крыльцо. Внутри гремела музыка, от которой дрожали ставни и дребезжала жестяная труба. Избушка медленно пошла в сторону Подкидыша. Остановилась. Громобойная музыка смолкла внутри. Свет в окошке погас. Затем кривая дверь со скрипом раззявилась – и на пороге показался здоровенный молодец, похожий на стрельца, держащего в руках секиру, сверкающую во мгле.
– Иван-дурак? – сурово уточнил он, глядя на парня в расписной косоворотке.
– Не дурнее тебя, – огрызнулся Подкидыш.
– Извини! – Стрелец руку к сердцу прижал. – Не хотел обидеть. Я в том смысле, что ты – это ты? Ну, тогда всё пучком. Всё путём. Заходи, там ждут.
– Подождут! – Подкидыш задержался возле могучей куриной ноги, сверкающей пудовыми железными когтями; ему захотелось понять, кто эту лапу ковал? Только рассматривать некогда было – придворные холопы вышли на крыльцо и очень вежливо, но всё-таки настойчиво попросили поторопиться.

Глава десятая. Дворец в избушке
1Далеко шагнула матушка-наука, широко размахнулся папаша-прогресс. Взять хотя вот эту избушку на курьих ножках. Снаружи это была вполне хрестоматийная хатёнка – живая иллюстрация к народным русским сказкам – дряхлая, кривая, побитая градом, покрытая плесенью, мхом. Зато внутри избушки – такое диво дивное, которое не всякий учёный объяснит. Внутри избушки находился – хочешь, верь, хочешь, не верь! – довольно просторный дворец, чёрт его знает, каким таким образом поместившийся там. Дворец этот был – сатанилище, построенное в стиле «вампир». Червонным золотом украшенные стены сатанилища точно облиты невысохшей кровью. Узоры, серебром сверкающие там и сям, казались жутковатыми оскалами зверья. А кроме этой страховитой старины – куча всякой современной техники. Рядом с печатной машинкой «Московия» стоял какой-то «Микроскоп» или «Микрософт» – компьютер, которого Подкидыш в глаза ещё не видывал. А в стороне, на возвышении, – как на пьедестале – космическими сплавами сверкала суперсовременная ступа с электронным управлением, с вертикальным взлётом и посадкой. А над головою был не потолок, а словно бы разверзнутое небо – таинственным светом мерцали созвездия, медленно кружились какие-то планеты, яичным желтком полыхало далёкое солнце, то ли настоящее, то ли искусственное.
От изумления физиономия парня по-лошадиному вытянулось. Разинув рот и приглушённо ахнув, он разглядывал убранство волшебного дворца. Белопенный фонтан здесь не шипел, не шелестел, как это обычно бывает с фонтанами – он песню протяжную пел, фонтанируя не водой, а белопенным птичьим молоком. Слева на цепях виднелся гроб со Спящею Царевной или что-то наподобие того. Справа зеркалом блестело озерко, в котором величаво плавала Царевна-лебедь. А дальше – не к ночи помянуто будет – чёрная плаха с белозубым топором, воткнутым в чурку. Жар-птица в клетке на окне золотыми перьями горела, бросая блики на потолок и стены.
Хозяин этого дворца – Нишыстазила, как потом узнал Подкидыш, только его пока тут не было. Хозяйка – Царь-Баба-Яга или просто Ягодка-Яга – в эту ночь решила погулять. Баба эта страсть как любила молодых Иванов-дураков, вот почему она и приказала Воррагаму слетать, куда надо и во что бы то ни стало раздобыть молодого жеребчика. Но всё это Подкидыш узнал позднее, а тогда, когда переступил порог – глаза чуть не лопнули от изумления. Однако, смотреть было некогда, его позвали не на экскурсию.
Воррагам своей трёхпалой лапой сзади в спину подтолкнул.
– Кланяйся, дурак!
– С какого перепугу я должен кланяться? – возмутился Подкидыш. – Убери свою лапу! А то заместо трёх вонючих пальцев – ни одного не останется!