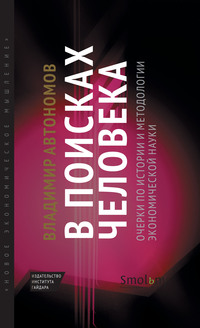
В поисках человека. Очерки по истории и методологии экономической науки
Специальный параграф (1.2) посвящен в этой главе понятию экономической рациональности. Разговор о рациональности в экономической науке пересекается с разговором о модели человека: можно, например, представить себе модель человека, состоящую из мотивационных и когнитивных предпосылок. Я предпочитаю говорить о модели человека, поскольку это сразу суживает тему. Понятие же рациональности чрезвычайно многозначно и вызывает множество ассоциаций. Это отчасти хорошо, потому что среди этих ассоциаций могут найтись полезные и интересные, но с большей вероятностью они могут запутать дискуссию. Во всяком случае, придется долго объяснять, о какой именно рациональности идет речь, а о какой нет. Существуют, например, такие темы, как рациональность экономической деятельности, рациональность экономической науки, – это области исследования, которые лежат вне поля зрения данной книги. И к тому же никуда не уйдешь от оценочных обертонов, присущих этому термину: рациональная деятельность рассматривается как правильная, похвальная.
У меня речь идет о предпосылке рациональности экономических субъектов, использующейся в экономической теории. Я предпочитаю и в этой книге (см. также пункт 4.2.3), и в последующих статьях, включенных в этот сборник, говорить о рациональности в рамках модели человека в экономической науке.
Здесь же содержится еще один важный, с моей точки зрения, момент: определение общественной науки через модель человека, в ней используемую. Та часть объекта исследования – человеческого поведения, – которая определяется и ограничивается выбранной моделью человека, – это и есть предмет данной науки. Этот момент подводит нас к разговору о сопоставлении моделей человека в разных науках и возможности междисциплинарных исследований (параграф 1.3). Стоит сразу же предупредить, что для такого сопоставления пришлось значительно упростить и даже примитивизировать сравниваемые модели человека. Из дальнейшего изложения читателю станет ясно, что единой модели человека, которой привержены все без исключения экономисты, не существует, а в истории она проделала значительную эволюцию. Из сопредельных наук – психологии и социологии, автор мог взять лишь то немногое, что ему известно как историку экономической мысли[8]. Зато представилась возможность вкратце рассмотреть историю и проблемы взаимоотношений экономической науки с теми дисциплинами, которые находятся к ней ближе всего[9]. Что же касается перспектив междисциплинарного взаимодействия, то я отнесся к ним в том тексте весьма осторожно, по крайней мере на современной стадии, когда разделение труда между различными общественными науками достаточно четко прослеживается. Сегодня же не могу не отметить работу В. М. Полтеровича, где высказываются новые заслуживающие внимания аргументы в пользу «единого социального анализа», среди которых выделяются единая эмпирическая база и единый аналитический аппарат[10].
В параграфе 1.4 я возвращаюсь к «предпосылочному» статусу модели человека уже по другому поводу. Люди с живым воображением при словах «экономический человек» представляют себе если не диккенсовского Скруджа, то диснеевского Скруджа Макдака. В XIX в. критики политической экономии любили задавать публике коварный вопрос: «Хотите ли вы, чтобы ваша дочь вышла замуж за экономического человека?». А сейчас в любом хорошем западном книжном магазине (к сожалению, их осталось немного) на полке стоит какая-нибудь книжка с названием вроде «Конец экономического человека», содержащая некоторые банальности про индустриальное и постиндустриальное общество. Поэтому приходится напоминать, что экономический человек не гуляет по улицам и не ухаживает за девушками потому, что он – абстракция. Разговор о необходимости абстракций и разной степени их глубины, в свою очередь, подводит нас к важной дилемме, стоящей перед экономической теорией, которую Томас Майер назвал дилеммой «реалистичности и строгости» (по-английски это звучит как ”truth vs. precision”, и мне стоило немалых трудов подобрать адекватный перевод). Я очень часто говорю об этом выборе своим студентам, которым неминуемо придется иметь с ним дело как будущим экономистам. Здесь же показалось уместным обсудить вопрос о том, можно ли и нужно ли проверять поведенческие предпосылки экономической теории (параграф 1.5).
Вторая, историческая глава в наибольшей степени повторяет первую книгу, но там есть одна новая тема: соотношение между тем, что экономисты говорят о методологии своей науки (я назвал это эксплицитной методологией), и тем, чем они на самом деле руководствуются в своих работах (имплицитной методологией). Между эксплицитной и имплицитной методологиями бывают поучительные различия. Такие великие экономисты, как Маршалл и Фридмен, явно не были великими методологами, хотя «Эссе о позитивной экономике» Фридмена наделали в свое время много шума среди экономистов. Здесь вспоминается известный анекдот про большого писателя Набокова: слон, несомненно, большое животное, но он не может заведовать кафедрой зоологии. Вместе с тем профессиональные методологи часто бывают философами и плохо представляют себе специфику работы экономистов-теоретиков. Свое предисловие к русскому переводу «Методологии экономической науки» Марка Блауга я назвал «Почему экономисты не любят методологов?». Наверно, главное исключение из этой печальной тенденции, помимо Дж. С. Милля, составляют представители австрийской школы: Менгер, Мизес, Хайек, Махлуп, Шумпетер, Роббинс, которые не только были искушенными методологами, но и пытались практиковать в теории то, что проповедовали как методологи.
Если бы я писал эту главу сегодня, то уделил бы больше внимания «склонности к обмену», которая является одним из основных свойств человека в «Богатстве народов» Смита. Это неочевидное свойство лежит в основе разделения труда, из которого Смит, в свою очередь, выводит технический и экономический прогресс. Важно, что благодаря этой предпосылке разделение труда возникает естественно, само по себе и не требует понуждения со стороны государства. Поэтому модель человека у А. Смита (включая собственный интерес и компетентность в его определении) – это важный его аргумент против меркантилистов.
Замысел третьей главы – в первой книге аналога не было – таков: мы возвращаемся к компонентам современной модели человека и смотрим, насколько они проблематичны, какие аномалии и дискуссии с ними связаны. У внимательного читателя при этом, может быть, возникнет вопрос: как же так, еще в первой главе специальный параграф был посвящен тому, что предпосылки экономической теории не подлежат непосредственной верификации? Однако здесь противоречия, на мой взгляд, нет: глубоко абстрактная модель человека, из которой исходит доминирующая в экономической науке неоклассическая теория, часто служит отправным пунктом научного поиска. Ослабляя ту или иную абстракцию, составляющую модель человека, исследователи делают шаг к реальности. При этом они либо удерживаются в рамках неоклассики (максимизации целевой функции, равновесия), либо предлагают ей альтернативу (это сейчас принято называть гетеродоксальными подходами). Так и происходит прогресс в современной экономической науке, если рассматривать его сквозь призму модели человека, что я и попытался сделать на том материале, который был мне известен в середине 1990-х гг. Поскольку начиная с маржиналистской революции основными «изолирующими» компонентами модели человека, которые обособляют предмет экономической науки от поведения, соответствующего житейскому здравому смыслу, являются информированность и рациональность, то немудрено, что именно областям экономической теории, связанным с этими компонентами уделено в главе первостепенное внимание. В микроэкономике это проблема неопределенности, а в макроэкономике – проблема ожиданий. Особое место занимает здесь теория ожидаемой полезности. Она впервые дала возможность эмпирически проверить гипотезу максимизации ожидаемой полезности, входящую в модель человека, и убедиться в ее неверности для целого ряда случаев. Но это в общем не повлияло на употребимость данной гипотезы и доказало на практике, что компоненты модели человека действительно входят в ядро экономической теории и не могут эмпирически опровергаться.
Однако и в области мотивации можно найти несколько важных проблем: это изменения потребностей и их реальная зависимость от ограничений, проблема эгоистичности экономического человека и информативности предпосылки неэгоистического поведения, экзогенность или эндогенность норм, неискоренимый альтруизм в теории общественных благ и т. д.
Одним из самых интересных результатов этой главы стал, по-моему, тезис о «неоклассическом обволакивании» – процессе, в ходе которого неоклассическая теория включает в себя аномалии и иные сложности реального поведения, переводя их на свой язык максимизации и равновесия. Неоклассическая теория, таким образом, расширяет сферу своего применения, но внедренные в нее феномены из угловатых и малоприятных камешков превращаются в гладкие и блестящие жемчужины. То, что этот образ с тех пор прижился, свидетельствует о том, что он отражает реальный процесс.
В четвертой главе продолжается разговор о различных гетеродоксальных подходах («строках» матрицы), начатый в первой книге. Как мне кажется, здесь заслуживает внимания попытка найти общие черты для моделей человека в гетеродоксальных подходах (параграф 4.1), где на первый план вновь выходит дилемма «строгость против реалистичности» и связанная с ней глубина абстракции. В пункте 4.2.3 начинается обсуждение постоянной и переменной рациональности в рамках модели человека в экономической науке, которому будет посвящена одна из последующих статей[11]. Это, конечно, не отдельная строка в нашей матрице, так что в этой главе данный параграф не совсем на месте.
Обратите внимание, что поведенческая экономическая теория в этой главе включена в гетеродоксальные подходы. Между тем можно констатировать, что в 1980–2000-х гг. она попала в мейнстрим экономической науки в ходе процесса, который мы с Юрием Автономовым постарались описать в другой работе[12].
В этом предисловии я уже неоднократно настаивал на том, что моим главным предметом является служебная концепция человека в экономической науке, набор абстрактных предпосылок, который нельзя непосредственно обнаружить в экономической реальности. А вот теперь мы будем иметь дело с редкой попыткой выйти за пределы этого угла зрения и рассмотреть модель человека для экономической системы. Речь идет о нашей с Алексеем Беляниным совместной статье «Поведенческие институты рыночной экономики: к постановке проблемы».
Объясню, как возникла идея этой работы. В ходе рыночных реформ, проводимых в России, безоглядный оптимизм по поводу рынка довольно быстро сменился столь же безоглядным пессимизмом. Одни исследователи высказывали точку зрения, что «постсоветский человек», который в значительной своей части оставался советским, лишенным инициативы и ответственности, не годится для рыночной экономики. Другие авторы, доказывая тот же тезис, апеллировали к «досоветской» натуре российских граждан, сформировавшейся под влиянием православной церкви, чуждой индивидуализма и склонной к соборности. Этим тревожным пророчествам противостояло мнение, согласно которому Россия – обычная страна, и если создать нормальные институты рыночной экономики, российское население будет вести себя нормальным рыночным образом[13]. Эти дебаты и привели нас к размышлениям, каким же должен быть человек, чтобы рыночная экономика развивалась адекватно, на собственной основе. Статья продолжала линию, намеченную мной в более ранних работах[14]. Здесь надо упомянуть и еще об одном вопросе, из которого выросла эта линия рассуждений. Это традиция экономической этики, с которой я имел возможность познакомиться в ее немецкоязычной колыбели. Как известно, этический подход к экономике характеризовал немецкую историческую школу, которая выступила против обособления политической экономии от этики, предпринятого Адамом Смитом. Этот подход распространялся и на социальную политику, в которой Германия преуспела раньше других западных стран. Конечно, важный вклад в данное направление внес Макс Вебер своей «Протестантской этикой». Историческая школа сошла со сцены после Второй мировой войны, но традиция экономической этики в немецкоязычной литературе осталась. Существовала аналогичная литература и на английском языке, но там местом ее бытования были школы бизнеса и прикладные пособия. В Германии же и немецкоязычной Швейцарии это была уважаемая академическая дисциплина, в которой подвизались философы, теологи и широко мыслящие экономисты.
В начале 1990-х российским экономистам открылся доступ к мировому экономическому сообществу. Кто что имел, то и предлагал для возможного сотрудничества с западными коллегами. Я тогда уже увлекся моделью человека в экономической науке. В поисках кого-нибудь, кто занимался моделью человека, я нашел интересного автора – профессора Петера Ульриха. Мне понравились его публикации[15], я послал ему запрос и получил ответ из швейцарского Санкт-Галлена, где он возглавлял Институт экономической этики. В итоге состоялся обмен: сначала к нам в ИМЭМО, где я тогда работал, приехал человек из Санкт-Галлена, а потом я, соответственно, поехал туда. Субсидировала этот обмен замечательная организация – Швейцарский национальный научный фонд. Этот фонд требует от каждого своего аспиранта в обязательном порядке съездить поработать в период написания диссертации по крайней мере в две страны. Мой коллега из Санкт-Галлена Мартин Бюшер поехал сначала в Гарвард, потом в Зимбабве, а затем в Россию. Ему было интересно, как развивается Россия после начала перестройки, что у нас происходит с экономической этикой и вообще. Он приехал ко мне, а затем организовал для меня приглашение в Санкт-Галлен с ответным визитом. То есть имел место научный обмен по линии экономической этики, которой я в то время еще не занимался. Это была моя первая поездка на Запад в качестве ученого. Я выступил там на семинаре и подготовил публикацию по теме диссертации в местном препринте. Прекрасная институтская библиотека и лекции профессора Ульриха для аспирантов, конечно, открыли передо мной новые горизонты, но непосредственно экономической этики я долго после этого не касался. Второе соприкосновение с той же традицией произошло, когда я стал сотрудничать с Петером Козловски и перевел на русский его книгу[16]. В рамках серии «Этическая экономия», которую мы выпускали с Козловски в дружественном питерском издательстве «Экономическая школа», было напечатано несколько работ о соотношении этики и экономических систем.
Кроме того, сильное влияние на меня оказала книга американского социолога Питера Бергера, продолжившего веберовскую линию[17]. Наконец, не могу не упомянуть о недавней трилогии Дейдры Макклоски, в которой один том посвящен буржуазным добродетелям и их роли в развитии капиталистической экономии. Это, я думаю, самое важное продолжение той традиции мысли, которой мы руководствовались в статье про поведенческие институты рыночной экономики. Про теорию Макклоски написал замечательную курсовую работу мой студент Мурат Бакеев[18].
Тема рациональной и этической составляющих человека рыночной экономики стала вариться во мне и нашла выход в нескольких публикациях, из которых данная – наиболее полная. В заглавии статьи упоминаются «поведенческие институты», но сегодня я бы выбрал другое название. Хотя Веблен говорил об институтах как привычных способах мысли и действия, но неформальные институты (в которых я выделил группу «поведенческих», а можно было говорить о культурных факторах, ценностях, менталитете и т. д.) чаще всего нет смысла объединять под одной рубрикой с формальными. Если это сделать, то не получится разговор о соотношении культуры и институтов, который может быть интересным, как показывает обширная современная литература[19].
В статье мы предлагаем поменять привычный предмет анализа и ищем человека не в экономической науке, а в другой области. Если раньше речь шла о модели человека как предпосылке, точнее, предпосылках теории, то теперь – о модели человека как предпосылке реальности. Мы предполагаем, что нам известны некоторые идеально-типические черты рыночной экономики, а потом задаем вопрос, какие свойства человеческой природы их обеспечивают. Естественно, что после этого логично будет сопоставить эти свойства с тем, что нам известно о наших согражданах.
При этом мы не смогли и не захотели далеко отходить от модели человека в экономической науке (МЧЭН). По нашему предположению, основой модели человека для рыночной экономики (МЧРЭ) могут послужить менее абстрактные варианты МЧЭН, свойственные домаржиналистской стадии развития экономической теории, а также поведенческой экономике. Но есть важное различие между двумя моделями: МЧЭН в большинстве случаев обходится без этики (не зря же Адам Смит старался выделить политическую экономию из моральной философии), а МЧРЭ без нее обойтись не может. Поэтому в нашей статье этической составляющей экономической деятельности отводится основное внимание (а там, где это возможно, мы вспоминаем и об исследовании этических феноменов в экономической науке).
В статье затронута также тема разнообразия агентов рыночной экономики (предприниматели, потребители, работники), которое невозможно описать в рамках экономической теории с единой абстрактной МЧЭН (в классической политической экономии такой трудности не возникало, поскольку подчеркивались различия в поведении между классами). Впоследствии я остановлюсь на способах решения этой проблемы с помощью введения дополнительного экономического субъекта в теорию на примере теории предпринимателя[20].
Разговор о культуре и институтах продолжается в предисловии к переводу книги голландских авторов Бёгельсдайка и Маселанда, обобщающих практику культурно-экономических исследований на более новом и гораздо более обширном материале, чем в нашей с Беляниным статье 2011 г. Вообще, должен сознаться, что переводы и писание предисловий к переводам относится к числу моих любимых научных занятий. Возможность проникнуть в ход мыслей интересного автора, в чем-то стать на его точку зрения (а без этого адекватного перевода не получится), всегда меня увлекала.
Третье поле, к которому мне приходилось прикладывать концепцию модели человека, – это экономическая политика. Здесь тоже главную роль сыграл случай: очередная ежегодная конференция Европейского общества истории экономической мысли (в них я участвую с конца 1990-х) была посвящена теме «Либерализмы в истории экономической мысли». Поскольку я уже привык смотреть на все явления экономики и экономической науки через оптику модели человека, то постарался поставить вопрос, на какие свойства человеческой природы опирается либеральная экономическая политика? Ответ я искал в программных произведениях тех великих экономистов, которые были привержены либеральной политике. Работа оказалась актуальной, поскольку ее появление совпало с острыми дискуссиями, в которых преобладала критика так называемого неолиберализма. Между тем еще не так давно, в эпоху рейганомики и тэтчеризма, которую также можно было назвать эпохой дерегулирования, либеральная политика не только была популярной и модной, но и казалась единственно естественной. Этому способствовали не только подрыв доверия к кейнсианской экономической политике в ходе стагфляции 1970-х, но и явный крах экономики централизованного планирования в Советском Союзе и других странах социалистического лагеря. Выявившаяся несостоятельность одной крайности привела к вере в крайность противоположную – вот это как раз совершенно естественно для человеческой природы. Что касается моего личного отношения к этим дебатам, то я с большим уважением относился и отношусь к настоящим либералам, которые призывают человечество к свободе и ответственности (можно, пожалуй, сказать так: к свободе выбора, за последствия которого несется полная ответственность). Вместе с тем вера в успех либеральной доктрины на практике казалась и кажется мне чрезмерно оптимистичной. В статье, о которой идет речь, мне пришлось ввести новый вид модели человека – модель человека для экономической политики (МЧЭП). Поскольку эту модель я искал в трудах экономистов, она должна быть расположена не так далеко от МЧЭН. Но есть и важные различия. Во-первых, МЧЭП применительно к экономическому либерализму может быть основана как на рационально-утилитаристском фундаменте, близком МЧЭН, так и на ценности свободы, которую в экономическую теорию за редким исключением не допускали. Во-вторых, я решил выделить в рамках МЧЭП нормативную модель-идеал и инструментальную модель объекта политики – подданного. На самом деле не все виды экономической политики нацелены на достижение идеала. Помимо либеральной доктрины (в которую, с некоторыми оговорками, я бы включил и германскую концепцию социального рыночного хозяйства) к этой группе можно причислить разве что программу построения коммунизма в СССР (в которую, как мы знаем, входила задача воспитания нового человека и «Моральный кодекс строителя коммунизма»). Насколько сюда можно причислить такие широковещательные программы американских президентов, как «Новый курс» Ф. Рузвельта и «Великое общество» Л. Джонсона, я сказать не готов, поскольку не занимался всерьез этим вопросом. Но полагаю, что большинство программ экономической политики лишено идеологического компонента и модели-идеала в них нет.
Далее, инструментальная модель подданного в большинстве случаев не распространяется на субъекта политики – князя, короля, президента и т. д. Эти-то люди, наверняка, движимы общественным благом и воздействуют на иногда неразумных или упрямых подданных в их же собственных интересах. Только в парадигме общественного выбора Бьюкенена, Таллока и их единомышленников предполагается, что правители и государственные чиновники не являются профессиональными альтруистами, а движимы собственными интересами. Это был совершенно новый подход к экономической политике, и он остался вне моей статьи.
Следующий раздел сборника выходит за пределы проблематики модели человека, в более широкую область. Статья «Абстракция – мать порядка?» открыла для меня новую сферу методологических вопросов в экономической науке, связанную с выбором различной степени абстракции. Правда, собирая и перечитывая материалы для этого сборника, я обнаружил зародыш такого подхода во введении к своей первой книге и в параграфе о моделях человека в альтернативных подходах во второй книге. Но непосредственным импульсом, побудившим меня вспомнить об этой теме, явился перевод на русский книги моего норвежского коллеги Эрика Райнерта «Как некоторые страны стали богатыми, и почему другие страны остаются бедными», который мне довелось редактировать. Эрик – большой знаток теории и практики экономического развития (в некоторых странах он работал консультантом) и сам основал движение под названием «Другой канон», противостоящее излишне абстрактным экономическим теориям. Он человек страстный и пишет увлекательно (книжка выдержала семь изданий на русском языке), поэтому неудивительно, что близкое знакомство с книгой вдохновило меня на собственные размышления. Главной для меня стала идея о том, что степень абстрактности теории может быть связана с направлением политики, из нее вытекающим. По Райнерту получалось, что более абстрактные теории совместимы с более либеральной политикой, но мне захотелось вникнуть в эту проблему поглубже. Речь, таким образом, шла о связи экономической методологии и экономической политики, то есть инструментария и содержания. В какой-то мере здесь на меня даже повлияли работы М. Л. Гаспарова, находившего связь между стихотворным размером и содержанием стиха[21]. Я попытался углубиться как в методологию, так и в историю экономической науки, и в итоге получилась достаточно сложная картина соотношения более абстрактного и менее абстрактного канонов, которая изложена в статье. Переходя от модели человека в экономической науке к проблеме абстракции[22], я почувствовал, что передо мной как бы расширяется горизонт. Сходное чувство испытываешь, когда повезет напасть на нетронутую грибную поляну: наклоняешься за одним грибом и при этом видишь еще несколько. Одна из таких побочных находок – содержащийся в статье тезис о том, что не бывает хороших и плохих абстракций вообще, а бывают адекватные и неадекватные с точки зрения поставленной задачи. Этот тезис оправдывает методологический плюрализм в экономической науке, который был мне всегда интуитивно близок. Нашли свое место в данном контексте и мои любимцы Маршалл, Шумпетер и Ойкен, пытавшиеся совершить Геркулесов подвиг и объединить два канона.
В статье упоминается либеральный поворот в экономической политике в 1970–1980-е гг. Между тем мода здесь сменилась, и левизна, по аргументированному мнению многих исследователей, сейчас торжествует[23]. Пользуясь случаем, хочу высказать свою точку зрения по данному вопросу, которая заключается в том, что колебания моды в экономической политике носят циклический характер и этатизм приходит на смену либерализму лишь временно. Видимо, долгое пребывание в секторе экономического цикла повлияло на мое мировоззрение и побуждает везде видеть циклические процессы.