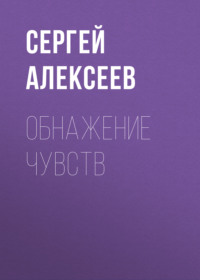
Обнажение чувств
А за Аркашей в приюте водился грех – любил красть, причем, все подряд, нужное и не нужное. Тырил, что плохо лежит, от хлеба в столовой до авторучек сокашников и часов воспитательниц. Был не раз пойман с поличным, уличен и сурово наказан, но удержаться не мог. Сударев все годы в приюте пытался отвадить от дурной привычки, даже лупить пробовал – ничего не помогало. От лихоманки оказалось легче избавить! Аркашу показывали врачам, которые твердили, что признаки клептомании есть, голодное детство, но это с возрастом пройдет.
Не прошло: когда сержант Сударев оставался в ущелье прикрывать отход взвода, и ему отдавали последние патроны и гранаты, Аркашка спер полную пулеметную ленту. Больше некому! Прихватил непонятно, зачем, пулемета у отступавших не было, а сам он вообще был санинструктором роты, перевязывал и таскал раненных. Судареву как раз ленты и не хватило, чтобы отбиться от душманов, пришлось уползать с пулей в ноге, разворотившей ступню, и отстреливаться одиночными. Когда патроны кончились, он зашвырнул пулемет в каменную осыпь, ибо пулеметчиков в плен не брали, зарыл документы, после чего спрятался сам. Рассчитывал отсидеться, пока не подойдут свои, но они не подходили, только прилетали вертушки и постреляв ракетами, ушли. Духи отыскали его через сутки, когда ногу разбарабанило до колена и поднялась температура. Голову рубить не стали, увели с собой и продержали в плену два месяца.
Вот про эту украденную ленту Сударев и напомнил скандальному писателю. Аркаша узрел висящий над собой меч, прилетел в тот час же, наставника и однополчанина своего признал мгновенно, и по-кавказски клянясь матерью, заверил, что патроны не воровал. Говорил убедительно, со слезой и страстью – убеждать он умел, обнажая чувства, и Сударев оценил это, еще читая Аркашину жесткую, психологичную прозу.
В общем, его мечтательное воображение почти всегда помогало материализовывать образы близких людей, кроме единственного человека, увидеть которого он с годами хотел более всего – учительницу русского Марину Леонидовну, или просто Марину Морено. Вызываемый ее дух почему-то упрямился и не желал объявляться, скромно и как-то стыдливо отмалчиваясь. Его присутствие он ощущал, и даже пытался заговорить, подобрать слова искренней благодарности за науку, особенно за уроки любви, однако в ответ слышал некий шелестящий, неразборчивый шепот и шуршание шинельного сукна.
Когда появился интернет, Сударев уже напрямую обратился к ней в соцсетях, ждал много месяцев и не получил ни каких вестей, хотя писал общим знакомым по приюту, которые должны были помнить, кто целых полгода давал уроки литературы и русского в шестом классе. Никто не помнил! Словно память о себе стерла. Словно ее и не было, словно никто не завидовал Судареву, когда она взяла его на попечение. Будто не водила она детдомовскую ребятню купаться на песчаный карьер старого стекольного завода, возле которого жила в учительском домике. Словно не жгли костров на песке, дабы согреться после холодной майской воды, не прыгали через огонь и не водили хороводов с пением древних весенних закличек. Никто больше из учителей не баловал так сиротские души, не по учебному тексту – по жизни сочиняя истории о любви между мужчиной и женщиной. Загадочные, романтичные, пронизанные единственной мыслью, поиском своего избранника.
Она сочиняла стихи, записывая их прямо на песчаной отмели. А потом она давала Судареву основы теории стихосложения, понудила его к творчеству и весной оформила опеку…
Ее нельзя было забыть! Марине Леонидовне сразу же приколотили прозвище – Коса из-за огромного, толщиной в руку, пучка каштановых волос на маленькой, почти детской головке с тонкой и длинной шеей. Обычно она заплетала их, чтобы в школе быть строгой и аккуратной, но вынуждена была носить тяжелую косу в руках, чтобы не оттягивала голову. Коса доставала земли, поэтому учительница пользоваться ею, как плетью, в шутку стегая лентяев и хулиганов. Судареву попадало много раз, и чтобы получить еще, он умышленно безобразничал на ее уроках. Вне школы она расплеталась и скручивала волосы в жгут, который носила на плечах, как воротник. Когда она впервые вошла к ним в класс, Сударев сразу же подумал, что где-то ее уже видел – то ли в монастырской трапезной, где была столовая приюта, то ли в спортзале, то есть, в храме. Лицо знакомое, но видел не долго, мельком, так что в памяти остался лишь взор из-под приспущенных выпуклых век. Сразу вспомнить не мог, поэтому ходил и все время об этом думал.
Да разве можно не запомнить женщину, читающую вслух и с выражением Чеховскую «Каштанку», а ты сидишь перед ней, видишь только ее глаза с приспущенными веками, пухлые, чувственные губы, всегда чуть влажные и трепетные?
В последние годы он стал думать, что Марина Леонидовна, наверное, давно в мире ином, поэтому не отзывается. Затосковал так, что потерял интерес к этому свету, не простившись с близкими, умер. Точнее, повис между мирами, наконец-то увидел учительницу, только понять было невозможно, на каком свете она пребывает? Где сейчас учительский домик?
И от того, где он, довершить переход или уж вернуться назад, в этот мир.
3
Первым по письменному вызову примчался Аркаша. Из косоротого, трясущегося мальчишки вырос чуть ли не саженный мужчина-красавец с благородным породистым лицом викинга, что подчеркивала рыжеватая борода, косичка на спине и увесистая трубка. Приехал на такси, сразу после «скорой», но не вошел и не постучал – присутствие постороннего выказала овчарка. Анна вышла на лай, обнаружила некую темную фигуру у крыльца и окликнула.
– Здесь живет профессор Сударев? – Аркаша выступил из сумрака, защищаясь от собаки портфелем.
– Здесь. – отозвалась она. – Вы кто?
– Аркадий Дмитриевич Ерофеич, по приглашению Алексея Алексеевича… Он не спит?
– Он не спит. – сказала Анна. – Он умер.
– Как – умер?… Прислал письмо! Позвал на свадьбу!
– На свадьбу?
– Ну да! Завтра утром венчание… С тобой?
– Не знаю, – обреченно проронила она. – Он ничего не говорил. Может, и собрался венчаться. Только не со мной…
– Я тоже подумал, какое венчание? Мы же детдомовские, не крещенные…. А ты меня узнала?
– Да, мы как-то виделись, на вокзале…
– А он оставил какие-нибудь распоряжения?
– Скончался скоропостижно. Во сне…
– Может, раньше что-то наказывал?
Анна взялась за голову.
– Я сейчас ничего не соображаю… Проходите.
В передней Аркаша бросил портфель и точно указал на дверь, за которой лежал покойный.
– Там?
– Там…
Будучи когда-то санинструктором штурмовой роты в Афгане, он еще не забыл медицинских навыков, по крайней мере, живых от мертвых отличал. И тут, покосившись на увлеченную чтением, старушку, пощупал пульс, оттянул тугое, костенеющее веко и сел на подставленный Анной, стул.
– Как же так? Пригласил на свадьбу. А сам… Свадьба, это аллегория? Или все-таки на тебе хотел жениться? Признавайся! Невесту назвал Марина Морена.
– Меня зовут Анна.
– А псевдоним? Ты же вроде как поэтесса?
– Я говорила, про женитьбу профессора мне ничего не известно. – уклонилась Анна.
– Да, выдумщик был еще тот!… Смерть, это тоже женитьба, венчание. Впрочем, не исключено, что он вообразил свою кончину.
– Как это – вообразил? Разве это возможно?
– У Сударева все возможно. – заявил Аркаша. – Это же мечтатель! Прикинулся мертвецом, чтоб посмотреть, что мы станем делать…
– Вы что, идиот? – грубо спросила Анна и поправилась. – Простите за прямоту. Но вы несете вздор! Зачем такое воображать?
– Цели могут быть разные. – сбился известный писатель. – Над нами приколоться, например…
– Как вам не стыдно?
– Мне уже стыдно. – сдался Аркаша, исподволь рассматривая вдову. – Я покраснел, посмотри на мой нос?
Сударев обрадовался, что первым пожаловал приютский воспитанник, но выразить этого никак не мог. В зеркальном его сознании отсутствовали мысли встать, пожать руку, обнять и сказать какие-то слова. Все это было не нужно, а ощущение радости пузырилось и пенилось, как водопад, существующий над его головой. Но что вертелось в его отстраненном от тела, разуме, это спросить про учительский домик на берегу карьера – цел или нет? Аркаша последнее время жил при монастыре, где был когда-то приют, а это всего в двух верстах от поселка стекольного завода. Если ехать в город, то домик этот хорошо видно с дороги, по крайней мере, его пирамидальную крышу.
– А мне все кажется… он жив! – со слезой проговорила Анна. – Не верится…
Аркаша подавил пальцем кожу на предплечье – после нажима оставались лиловые пятна.
– Нет, Анна… – вымолвил с надеждой. – Началось трупное окоченение… Он ничего не оставлял для меня? Рукописи, например, документы?
– Какие рукописи? О чем вы?
– Может, высказывал пожелания? Ко мне? Или как-то иначе выражал отношение?
– Да, кажется, позавчера. – припомнила Анна. – Я убирала в кабинете… Профессор сказал, надо провести Арканю сквозь чистилище.
– Сквозь чистилище? Что это значит? Помыть с мылом?
– Не знаю… Сейчас не до этого…
– А мне это очень важно! – Аркаша схватил ее за плечи. – Что еще говорил?
Она вырвалась.
– Что вы себе позволяете?! Такое горе!… А вы только о себе! Вы конченный эгоист!…
– Пожалуйста, не надо истерик. – оборвал он. – Я тоже скорблю. В детдоме научились плакать без слез. Слезы его оскорбляют.
При жизни Сударева они виделись только однажды, и то случайно, на вокзале, поэтому разговаривать следовало, как малознакомым людям. Горестный час у тела дорогого человека их не должен был сближать, поскольку Аркаша с некоторых пор был подчеркнуто грубоват в отношениях с женщинами, особенно, с чужими женами, которые ему нравились по определению. На вокзале Анна испытывала период счастья, поэтому походила на крупную породистую, но хищную кошку и понравилась ему с первого взгляда. Овладеть женой профессора стал бы высшим пилотажем, но Аркаша пытался лечить эту старую болячку. Клептомания довлела над ним всю жизнь: официально он женился дважды, и каждый раз крал замужних женщин у своих приятелей. Неожиданно для себя он превращался в змея-искусителя – внешность позволяла, проявлял блистающий талант обольстителя, ухаживал красиво, тонко, изящно и уводил жену. Редкая женщина в силах была устоять, когда известный писатель становился на колени, целовал край платья и не говорил – пел такие слова, что голова кругом. Многие соглашались только на любовные свидания в съемных квартирах, в машине, в детской комнате на вечеринке у приятеля и в запущенных уголках парков. И это была не просто блажь или хулиганское увлечение; чужие жены ему всегда казались прекрасней, чем свободные женщины, поскольку на них уже лежала печать любви, семейного тепла, заботы и ласки. Автор жесткой, воинской прозы вкупе с женой приятеля воровал и это чужое чувство, раз и навсегда испытав потрясающий вкус краденной любви, когда есть чувство опасности, риска и наркотический адреналин.
– Вы красите волосы хной? – спросил тогда он на вокзале. – Поэтому они огненные?
– Я ни чем не крашу волосы. – был ответ. – Я огненная от природы.
– Зачем вы отрезали косу?
– У меня никогда не было косы.
И это были единственные слова, сказанные друг другу.
Однажды Аркаша пришел на кафедру и признался критику в этом своем грехе, обсудил с ним замысел нового романа о сладости и горечи похищенной, порочной любви. Сблизиться думал таким образом, войти в доверие к наставнику, но сам тешил мысль совершенно иную, поскольку огненная Анна воспалила воровское сознание, как горячая, породистая кобылица взбудораживает конокрада. Профессору тема понравилась, благословил, обещал поддержку, и даже неожиданно признался, что сам хочет написать роман о любви, о природе этого потрясающего чувства.
В общем, поговорили душевно, как в былые времена, однако Сударев приближать бывшего подопечного не стал, домой не пригласил, возможно, потому, что почуял подвох. И написать новый роман Аркаша тоже не успел, помешали обстоятельства. Дело в том, что недавний второй, воровской брак оказался трагичным, как глава из ненаписанного романа: через полгода совместной жизни с Аркашей его похищенная избранница выбросилась из окна девятиэтажки. И оставила записку, что не может разорваться между двумя мужчинами, ибо все время в новом замужестве встречалась и отдавалась первому мужу. Тот требовал близости, а она в силу привычки не могла устоять.
С тех пор он не смотрел ни на свободных, ни на замужних, превратившись в женоненавистника. Анна об этом знала из рассказов Сударева, и еще знала, что отношения у них сложные, даже критичные, однако приезд друга профессора слегка приподнял дух, по крайней мере, теперь стало не так страшно и одиноко возле мертвеца.
Их единственную встречу на вокзале она запомнила, Аркадий Дмитриевич тогда еще не принимал обета безбрачия и своих чувств к женщинам не скрывал, не стесняясь даже присутствия мужей. Он много раз проверял, что за легкий, безобидный флирт в морду сразу не бьют, принимают за характерность и причуды известного писателя и снисходительно прощают. Еще он знал, что игривое выражение чувств, осторожные намеки оставляют следы в душе и памяти женщины более глубокие, чем слова любви и клятвы.
Анну он демонстративно будто бы сразу не узнал, и это ее успокоило, хотя она с порога ощутила навязчивый и приятный запах охотника. И чтобы перебить его, погружала гостя в эзотерический туман.
– Он теплый!… Вот потрогайте ноги. А говорят, они остывают в первую очередь.
Сударев тоже помнил встречу на вокзале, но восхитился от ее веры и верности, и если бы поднималась рука, погладил бы ее умную головку.
Приютный однокашник пощупал голые ступни покойного, в том числе и раненную, затем свои, но ничего не сказал, поскольку они оказались комнатной температуры и точно такие же, как у самого. Анна не сдавалась.
– И еще!… Если долго смотреть на закрытые веки, видно как движутся глазные яблоки! Поглядите сами! Он слушает старушку, ее голос…
– Что это значит? – серьезно спросил Аркаша.
– Душа находится в теле. Он в состоянии сомати!
Боевой однополчанин повиновался и минуту смотрел в глаза покойному. Затем встряхнулся, отошел в дальний угол и уже оттуда заговорил совершенно другим, жестким, как проза, голосом – надо было спустить ее на землю.
– Не обольщайся, девочка. Нет такого состояния. Есть живые и мертвые. Спроси вон у бабки – скажет. Если при церкви служит, повидала тех и других.
Сам же снова восхитился Анной – до чего же хороша! Скорбь даже украсила ее образ, приспущенные веки стали выражением иконописного смирения перед судьбой. И как профессору удавалось находить и брать таких? Аркаша еще помнил бывшую его законную жену Власту, которую видел тоже не долго и так же поразился красоте, не смотря что ей было за сорок.
– Я его никому не отдам! – вдруг клятвенно произнесла Анна. – Если он впал в сомати, пусть будет дома! И зачем я вызвала эту… машину?
– Какую машину?
– Которая возит мертвых в морг…
– Ты уже вызвала? – насторожился Аркаша.
– «Скорая» заставила…
Автор суровой воинской прозы на минуту обвял, вдруг скосоротился, затряс сжатыми кулаками, не зная куда их деть, потом взял себя в руки, замер и сказал уже твердо.
– Не знаю, есть ли сомати… Не верю! Но вот сны у него бывают богатырские. Помню, однажды пришел из боевого охранения и уснул в палатке. А тут начался минометный обстрел, про Сударева забыли. Сами по щелям расползлись, как тараканы. Потом схватились, прибегаем, палатка в клочья, коечки и матрацы будто топором порублены. Кругом вата тлеет… Сударев даже не проснулся! Тогда и кликуху ему сподобили – Бессмертный. А он взял вот и сыграл в ящик…
Профессор рассмеялся бы, коли мог. Не смотря на бравую внешность, Аркаша заметно старел, в последние годы, если вспоминал Афган, свои подвиги и заслуги. Даже юбилейные значки и медали носил! И сейчас позванивал ими, нацепленными кривовато на кожаный пиджак. Только вот полученного недавно боевого ордена не было, наверное, постеснялся надеть.
Анна выслушала его с замиранием сердца и голос ее затрепетал.
– Да, да! Он так спал! Однажды даже на работе… Я пугалась, думала, без сознания!…
– Даже знаю, что он в это время делает. – уверенно заявил женоненавистник.
– Что?… Только не говорите дурного!
– Мечтает. Он из породы неизлечимых мечтателей! Скорее всего, это шиза, такое состояние психики.
– Как вы можете? – слабо возмутилась Анна.
– Могу. – грубо сказал Аркаша. – Я все могу говорить возле тела боевого друга. В детдоме он мне был как отец. Это вдове положено или ничего, или хорошо.
Слово «вдова» ее сильно ранило, а больше склонило к терпеливости, подломившей голос.
– Но о чем можно мечтать, чтобы терять ощущение реальности? Это же глубокая медитация. Он был далек от эзотерики, самого слова терпеть не мог. Но читал какие-то лекции для военных, секретные. О природе воображения… Вот о чем он сейчас мечтает?
Аркаша склонился к Судареву и посмотрел в закрытые веки.
– О чем?… Ты не обидишься, если скажу?
Спрашивал будто бы у покойного, однако отозвалась Анна.
– Нет, я привыкла к его образу существования. И принимала все, а он был открытым человеком.
– Он мечтает о женщинах. Ты знаешь, что он собирался писать роман о любви? Причем, не об идеальной – о всяческом проявлении чувств между мужчиной и женщиной. В том числе, и о порочной любви. А он знал материал, купался в нем, поскольку был великий распутник!
– Не смейте так о нем! – эмоций у Анны хватило лишь на всплеск.
Аркаша даже не дрогнул.
– Тут смей, не смей… Но факт, бабник был могучий! Он даже говорил, если вызвать дух всех возлюбленных и окружить себя им, как обережным кругом, то можно остановить смерть. Мол, женщины таким образом хранят мужчин. Но только те, что были с ним… В общем, в сексуальной связи. И я уверен, сейчас лежит и думает о них. Роман сочиняет!
– Да, он говорил нечто подобное. – растерзанно вымолвила аспирантка. – Будто в воображении можно оживить память о прошлом и послать сигнал. Открывается телепатическая связь.
– Наивная простота! – с усмешкой воскликнул Аркаша. – Господи, чем у нынешних аспирантов забиты мозги?… Связь есть, только другая. Вот почему его так любили женщины? Знаешь, сколько их было у профессора? Если выстроить в круги, будет как у Юпитера. Ему никогда не умереть! Если все соберутся и отдадут ему по капле чувств, он восстанет из пепла.
Умышленно дразнил убитую горем Анну, подлый ворюга! Двигалась бы нога – пинка дал…
– Я все ему прощаю! – чуть поторопилась Анна. – Мы так условились. Разве можно осуждать прошлое? Если человека любят, это же прекрасно.
И схлопотала мысленные аплодисменты Сударева, который любил хлопать в ладоши по каждому, даже малозначительному поводу, объясняя, что таким образом сотрясает пространство, чтобы и боги на небесах услышали.
– Это ваше дело. – откликнулся Аркаша. – Но я бы советовал подумать о своей будущей судьбе. Как и с кем проживать твои прекрасные юные годы? Без профессорской благодетельной руки?
Она понимала намеки, но уходила от ответа, пряталась за эзотерическую глупость.
– Он будет жить. Состояние сомати не вечно. Вам не кажется, на его лице застыл вопрос… Что-то хотел спросить в последний миг? О чем?
– Не кажется.
– А я вижу вопрос…
Судареву хотелось подтолкнуть ее к размышлению, и тогда бы она прочитала этот вопрос – где сейчас учительский домик? Но Анне помешал Аркаша. Он потерял интерес к женской теме и переключился на другую, личную.
– Странное ощущение… Я всю жизнь его боялся. Как отцов боятся… И вот впервые нет этого страха. Можно говорить все, что думаешь.
– Это вы о чем? – встрепенулась Анна.
– О свободе слова. – пробурчал он и замолк.
Аспирантка заботливо поправила подушку под головой покойного, и Сударев в отраженных мыслях страстно схватил ее за запястье. Было чувство, что ощутил ее тепло, и Анна тоже почуяла прикосновение, с испугом отдернула руку. Несколько минут они стояли возле Сударева молча и прислушивались к бесконечному, однообразному и при этом неожиданно цветистому говорку старушки. Улавливался ритм и какой-то размашистый, долгий библейский размер, и это хотелось слушать бесконечно, даже не понимая слов. На улице почти бесконечно скулила собака, а тут и она замолчала. Крупная, рыжая овчарка прибилась совсем не давно, и хотя профессор никогда не держал псов, эту бродячую суку пожалел и оставил, соорудив из ящиков будку. Судя по отвисшему брюху, она вот-вот должна была ощениться, а на дворе стояла слякотная холодная осень.
– Нет, он жив. – повторила Анна. – Слышите, собака умолкла? А сначала завыла.
– Выть надоело. – проворчал Аркаша, не желая разговаривать.
Аспирантка не унималась.
– Как вы думаете, он нас слышит? В таком состоянии?
– Вряд ли… Нет, исключено!
Судареву хотелось расхохотаться в полный голос, ибо он слышал все: как во Внуково на стоянку зарулил самолет, на борту которого прилетела сестрица Лида, а на Ярославском вокзале к перрону подчалил фирменный поезд из Вологды. Там, в купе седьмого вагона его первая жена, Наталья, проспала и теперь натягивает теплые осенние сапоги, одновременной пытаясь разбудить взрослого сына Павла.
– Люди, вошедшие в сомати слышат оба мира сразу. – как-то по-школьному пояснила Анна, будто зная, что слышит и чувствует Сударев. – И с обеими ведут диалог. Он и нам что-то говорит, только мы не понимаем.
Аркаша тоже чуть не рассмеялся над этой явной глупостью, но в последний миг спохватился, что находится рядом с покойным другом и решил подыграть.
– Это можно проверить.
– А как? Вместо молитв почитать мантры?
– Оставь нас наедине. – потребовал Аркаша то, чего давно хотел. – И бабулю с собой забери.
Одно время Анна работала секретарем у Сударева, когда тот возглавлял факультет, и привыкла охранять доступ к шефу. Потом он взял ее в аспирантуру, сделался научным руководителем, а заодно и гражданским мужем, но прежнее ревностное отношение перекочевало в их семейную жизнь, только многажды усиленное. Еще немного, и скромная поэтесса, выпускница литературного сделалась бы полновластной хозяйкой личности Сударева. Аркаша об этом догадывался и чуял назревающий протест.
– Могу я остаться возле тела своего наставника? – с упреждением возмутился он, – Хотя бы на полчаса?
– Можете остаться, но только на полчаса. – отчеканила Анна. – Скоро из морга приедут, торопитесь. И бабушка пусть сидит и читает. А я тоже хотела бы побыть с ним наедине.
– Зачем? Ты и так побыла с ним, с живым.
– Не задавайте глупых вопросов! Если он мертв, то я оставлю вас обоих, навсегда. Мы так условились. Мне ничего было не нужно от профессора. Кроме искреннего желания ему служить.
– Служить? – зло изумился Аркаша. – Разве так бывает? Чтоб бабы служили творческим мужьям? А не висли у них на штанинах, как шавки?
Она вышла, не ответив и не затворив двери.
4
Аркаша подошел поближе к покойному, унял трясучку рук, спрятав их в карманы брюк, но спохватился, что стоять так возле мертвого не хорошо – завел их за спину и крепко сцепил пальцы. Он давно привык к роли скандального писателя и всегда щепетильно заботился о своем внешнем виде и положении, контролируя себя, как стоит, куда смотрит и гордо ли выглядит, чтобы не давать врагам повода для насмешек. Особо он относился к речам, которые всегда говорил складно, подбирая точные слова, поэтому его часто приглашали сниматься в передачах на телевидении. Но тут на него напало косноязычие.
– Алексей, я пришел, чтобы повиниться. – будто живому сказал он и покосился на старушку. – То есть, покаяться… Думал, попаду на свадьбу, а оказалось… Вчера письмо пришло, почта сам знаешь… А мне же еще ехать на поезде. Я ведь так в приюте и живу пока. Там сейчас женский монастырь, но для меня – детдом… В общем-то давно хотел, собирался сам придти. Но ты позвал на свадьбу!… Знаю, что от меня ждешь. Пулеметную ленту я украл, Алексеич. На двести пятьдесят патронов. Признаюсь и каюсь. Прости меня, отец родной… Ну, заело меня!
Сударев все это слышал, но не прямой голос – только его эхо, как в лесу или горах, где оно звучит, повторяя все слова. И в отраженной мысли, словно от камня, брошенного в воду, расплылся волнами беззвучный вопрос:
– Лучше скажи, учительский домик снесли? Или цел?
Аркаша что-то услышал, только решил, это ему чудится и он сам задает вопросы.
– Зачем украл?.. Ты же помнишь, когда снайпера убило, я винтовку его взял. Она пустая, а пулеметные патроны как раз подходят… Хотелось погеройствовать. Не всю же войну раненых таскать. Мы же пацанами были, Алексеич! А ты всегда шел вперед, всегда первый! Вот и заело! И меня все время подавлял, гнобил… Мне это надоело! Еще в приюте, между прочим… Нет, я понимаю, двести пятьдесят патронов изменили бы расклад сил. Ты бы смог отбиться от духов… И что потом? В плен бы не попал? Орден получил?… Да вся бы жизнь твоя пошла по иному руслу! И не случилось бы того, что случилось.