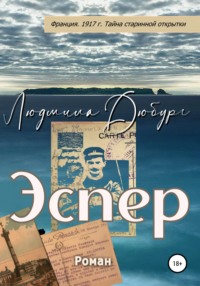
Эспер
О, девчонки! Вам нет дела до президентов! Наверняка открытка была выбрана с расчетом усыпить бдительность мадам Сартори, чтобы та не ругала беспечную дочку Мари за апаша.
И, наконец, последний шанс: Монмартр! 1916 год, ноябрь. Жюльет пишет сестре от себя и своего мужа Альбера:
«Моя дорогая сестренка! Твоя открытка доставила нам удовольствие. Теперь мы спокойны, зная, что ты в тишине и комфорте… Скоро начнут опадать листья, но сегодня еще солнечно, отличная погода. У нас все по-прежнему. Поль, друг Альбера, демобилизован после ранения. Восстанавливается, чувствует себя хорошо. Надеюсь, мое письмо тебя развеет. Как раз к слову, маленькая деталь: Альбер вернулся с рынка и принес больших крабов. Сама знаешь, сколько времени тратишь, чтобы их съесть. Он так и сказал: „Ну теперь, по крайней мере, успокоишься на один час!“ Представляешь, какая нежная забота? Будто я его не разгадала! Сейчас допишу, и он пойдет на почту отправлять эту открытку. Наивный! Пока он будет успокаиваться от меня, я успокоюсь с крабами, и ему ничего не останется! Тысячи поцелуев от нас обоих! Жюльет и Альбер».
Такая малость нужна, чтобы быть счастливым: просто купить крабов. И успокоиться. Даже, если муж будет дьяволом. В крайнем случае – всегда найдется апаш.
Часть вторая. Остров Д'Экс. Заточение
Одна мысль с особенной силой приводила его в неистовство во время переезда, когда он, не зная, куда его везут, сидел так спокойно и беспечно. Он мог бы десять раз броситься в воду и, мастерски умея плавать, умея нырять, как едва ли кто другой в Марселе, мог бы скрыться под водой, обмануть охрану, добраться до берега, бежать, спрятаться в какой-нибудь пустынной бухте…
А. Дюма. „Граф Монте-Кристо“
«Форт Энет. Атлантическое побережье Франции»
Глава 1. Венера Арльская
Из военного архива Château de VincennesФранцузская республика. Париж. Военное министерство. Докладная записка N205. «Русские солдаты, содержащиеся в камерах предварительного заключения тюрьмы Бордо, не могут предстать перед российским военным советом, так как, с учетом всего происходящего в России, решения последнего больше не являются легальными. Генерал Лохвицкий возражает против того, чтобы распоряжения, установленные правительством Керенского, применялись генералом Николаевым. Таким образом, нет далее возможности держать этих солдат в тюрьме. С другой стороны, учитывая их менталитет, опасные настроения, необходимо исключить вероятность контактов с другими русскими рабочими. Поэтому мне кажется, что есть единственное верное решение: отправить этих солдат на остров д’Экс (…)».[54]
* * *– Митька! Митька! Куды ты, леший, подевался! Братья с утра литовками машут, а ты, пострел, куды спрятался? От найду тебя, надеру задницу-то! Кулажку стащил и сидишь небось с Колькой своим! Обоим уши надеру! Выходи, паскудник!
Матушка у Митьки Орлова была страсть какая строгая. Но Митька знал, что мать души в нем не чаяла и любила больше всех. Ночью, бывало, подойдет к полатям в дальнем углу горницы, у печки, поднимется на ступеньку и, отодвинув занавеску, шарит рукой, приговаривая:
– Опять всех согнал, разлегся тут… Эх-х… Ну-ка, двинься сюды, понежу тебя, родимый ты мой… От горе-то луковое, опять книжки свои французские читал, пока братья работали.
Митька двигался в сторону матери, та гладила его сонное лицо, шептала что-то, и он проваливался в глубокий волшебный сон. Тихо. От вязанок сушеных грибов исходит знакомый запах, тут же земляника на лотке лежит, сушится. Дмитрий уснул, захватив пригоршню, не успев да рта донести. Рука разжалась, ягоды рассыпались. Мать осторожно их собирает, кладет в рот и крестит сына: «Храни тебя, Боже, сыночек».
Не совсем права была матушка, потому что он братьям помогал. А то как же! Хозяйство большое, семья Орловых тоже немаленькая, работы всем хватало. Книжки, правда, любил, это да. В их небольшой сибирской деревне Голыманово Дмитрия знали, звали частенько, чтобы прочитал что-то, объяснил. А ведь ему еще только пятнадцать недавно исполнилось. Насчет книжек тут уж ничего не возразишь. Особенно французские. Так ведь это все Павел Жанович, учитель их школьный. Митька помог ему как-то по дому, а тот возьми и предложи: давай, говорит, французскому тебя учить буду, а ты помогай иногда. Жан Бертон, дед учителя, ранен был в Отечественную, так и остался в России, женился, сына тоже Жаном назвали, а внука – Павлом, или Полем, как пояснил Павел Жанович. Фамилию на русский лад стали произносить: Бертонов. Французский язык в семье чтили, дети владели им свободно, так же как и русским. Митьке язык нравился, правда, говорить-то особо не с кем было, только с учителем. Своим до поры до времени не признавался, почему это он к Жановичу зачастил. Пока однажды за столом, после дополнительной порции пельменей, не произнес со значением:
– Мерси, маман.
– Чевой? Чевой-то ты сказал? – не поняла маман.
Братья с изумлением переглянулись, отец кашлянул, только сестра любимая, Клавушка, хихикнула – она-то знала, куда брат бегает, и чем Павел Жанович за помощь по дому платит. Митька и ее нескольким словам научил: «бель фий», «бель роб», «гарсон»[55]. Иногда истории из книжки пересказывал, да так, что Клавушка заслушивалась: сердце екало, воображала себя томной французской красавицей, а то и куртизанкой. Закатывала глаза к небу и произносила в нос, как учил Митька: «Же мапель Клодин»[56].
– Митька! Митька, где тебя черти носят, – продолжала неистовствовать матушка.
– Ты поосторожнее, мать, чего кипишь, найдется он, – прикрикнул отец. – Скирдовать-то прибежит, куды без него.
В этот самый момент Митька и верный друг Колька Калинников, приходившийся дальним родственником, обливались потом в прохудившейся кадушке, потягивая холодную обратку[57]. Матушка знала все их тайные места, а про кадку, которую сама же просила в лес отнести и выбросить, пока не догадывалась. Они ее ветками замаскировали и спрятали в маленькой рощице поблизости с домом, чтобы в случае чего тут же выпрыгнуть. Высунувшись из укрытия, убедившись, что матушки рядом нет, друзья улеглись удобнее. Митька достал книжку, положил на траву и, найдя нужную страницу, начал: «Тогда громкое рыдание вырвалось из его груди. Накопившиеся слезы хлынули в два ручья. Он бросился на колени, прижал голову к полу и долго молился, припоминая в уме всю свою жизнь и спрашивая себя, какое преступление совершил он в своей столь еще юной жизни, чтобы заслужить такую жестокую кару».
Дмитрий читал выразительно, делая театральные паузы, меняя интонацию, придавая в нужные моменты драматизм своему голосу, чем не раз доводил впечатлительного друга до слез.
«Так прошел день. Дантес едва проглотил несколько крошек хлеба и выпил несколько глотков воды. Он то сидел, погруженный в думы, то кружил вдоль стен, как дикий зверь в железной клетке», – Митька остановился, прислушавшись, не идет ли кто.
– Ну! А дальше! Дальше-то что? – торопил Колька, чуть не плача. – Неуж не отпустят? Эх, Дантесюшка ты наш! Предали тебя друзья-то! Ироды!
Николай, малолеток еще, младше Дмитрия на три с небольшим года, страсти к чтению не испытывал, но слушать мог часами. Правда, морщился всегда, когда сюжет любовный начинался:
– Да про баб не надо, дальше давай!
Но Дмитрий не пропускал ни одной строчки, а некоторые, «про баб», перечитывал по несколько раз, представляя, что вот он, крепкий широкоплечий парень, белокурый и голубоглазый, одетый в белую рубашку с голубой вышивкой – матушка старалась – видит молодую девушку. Она, точно как в книжке, «с черными, как смоль, волосами, с бархатными, как у газели, глазами». Ее зовут Мерседес. Дмитрий представляет «стройные изящные икры, обтянутые красным чулком с серыми и синими стрелками». Девушка протягивает к нему изящные ручки, «скопированные с рук Венеры Арльской» – надо бы спросить у Жаныча, кто это такая, Венера Арльская. Он берет Мерседес своими сильными ручищами в охапку, поднимает и прижимает к себе… Ух-х! Вот это жизнь!
– Митька, – тормошил друг. – Давай дальше. А то мать найдет, не успеем. Книжка-то огромная какая!
– Вот вы где! – добралась-таки матушка! – Ишь ты, разлеглись на солнышке! Бояре белобрысые! И этот туды же, – накинулась на Кольку. – Задаст тебе отец, с утра найтить не может. И пошто вы такие лодыри уродились! – бушевала не на шутку. Разбрасывая ветки, больно ударилась о кадку, разозлилась пуще прежнего. Друзья вскочили на ноги, книга выпала, мать схватила ее и в сердцах замахнулась на сына. Тот увернулся, отскочил в сторону и крикнул перед тем, как пуститься наутек вслед за удравшим уже Колькой:
– Не рви книгу-то! Книгу-то не рви!
Опасения, впрочем, были напрасны. Пелагея Васильевна Орлова была грамотная, книжки брегла, сыном гордилась и втайне мечтала, что когда-нибудь увидит его, рослого, сильного парня, рядом с красавицей в подвенечном платье. Предстанут они перед алтарем, ожидая благословения, а потом будут жить долго и счастливо. Митька, Митька. Родимый ты мой. Так бы и нежила тебя всю жизнь.
Она вздохнула и прочитала по слогам название книги: «Александр Дюма. Граф Монте-Кристо».
– Граф… Поди ж ты… В графья хочут. А кто ж скирдовать-то будет?
Когда Дмитрию исполнилось семнадцать, а Николаю, соответственно, почти четырнадцать, обе семьи перебрались в Самарскую губернию. Мать Кольки, «волжаночка», как называл ее муж, оттуда родом была, она и переманила. Купили мельницу в деревне Удалово, обосновались, хозяйство расширили. О сибирских морозах лишь только Пелагея Васильевна, коренная сибирячка, иногда вспоминала. А Дмитрию уж очень недоставало Павла Жановича. Письма ему писал, не забывая в конце послания добавить amicalement, то есть «с дружеским приветом, верный ваш ученик Дмитрий Орлов».
Надо отдать должное родителям, с пониманием отнесшимся к страсти Митьки: учитель французского языка вскоре был найден. Правда, ходить к нему приходилось в соседнюю деревню, за пять верст. «Туда и обратно – десять», – с важным видом говорил он другу Николаю. Учитель, месье Жорж Левро, любил прихвастнуть своими якобы дворянскими корнями и родом, восходившим, по его словам, к одному из французских королей, не уточняя, впрочем, к какому именно. За рассказом учитель порой забывал про ученика, иногда отлучался, спускался в голбчик, чтобы пропустить рюмку-другую водочки. Но Дмитрий полюбил эти десятиверстные прогулки aller-retour[58]. Иногда Николай сопровождал его, ждал окончания урока, и на обратном пути они купались в Волге, качались на волнах, плавали чуть не до заката в отблесках заходящего солнца…
– Митька-а-а-!
– Колька-а-а!
Матери опять задавали трепку, все повторялось…
1917 год. Конец сентября. Атлантическое побережье Франции«Боярдвиль» отчалил так плавно, что Дмитрий Орлов с досадой чертыхнулся. Не заметил! Он знал, что прощального гудка, как тогда, год назад, в Дайрене, не будет. И батюшка не сотворит молитву, перекрестив всех и каждого, отправив рабов божьих в дальнее плавание. И оркестр не сыграет «Боже, царя храни». Потому и хотел запомнить это самое мгновение, почувствовать, как суденышко оторвет его от берега, перережет пуповину, оставив наедине с неизвестностью. Хотел в этот момент божьей милости попросить, да момент пропустил.
Тогда, 29 февраля 1916 года в Дайрене, было другое. Эскадра из семи транспортных кораблей приготовилась к отплытию. Во главе флагмана – «Латуш-Тревиль», на нем же и командующий первой бригады, генерал-майор Лохвицкий. Дмитрий, гордый и счастливый, стоял на палубе другого транспорта: «Гималаи». Шутка ли – две с половиной тысячи человек только на одних «Гималаях». Сердце колотилось от радости: Франция! Загадочная и великая! Спасибо тебе, Павел Жанович! И тебе, Жорж Левро, спасибо. Жаль, не узнаете вы, что послушный ваш ученик Митька Орлов, может, и Париж увидит и, так уж и быть, про Наполеона подумает, привет ему от Жана Бертона передаст. Рядом стоял верный друг Николай Калинников, осунувшийся с дороги, все же здоровьем-то он послабее был, но тоже довольный, готовый к очередному путешествию. Исполнится их детская мечта.
Война представлялась чем-то очень далеким и не главным. Не страшным. Не о ней думали. Да, не о ней думали те первые почти восемь тысяч человек, отправившиеся в далекую страну, понятия о которой имели самые противоречивые. Не у всех же в детстве был Павел Жанович. Тогда, в Дайрене, да и потом, по прибытию в Марсель, чувствовал: не навсегда это, вернется. Вернется!
И только сейчас понял: все. Потому и хотел молитву сотворить в самый момент отплытия, желание загадать, веру в себе поддержать, но не успел. Засмотрелся на башни Ля-Рошель, вспомнил, как с Колькой «Графа Монте-Кристо» в кадочке читали, задумался и не заметил, что «Боярдвиль» – суденышко небольшое, но крепкое, понесло его в полнейшую неизвестность. «Последнее пристанище», – он вдруг отчетливо представил, что теперь-то уж точно последнее.
* * *Кольки Калинникова рядом не было. Дмитрий знал, что санитарам, которых он заставил развернуться и бежать на поиски, удалось найти друга. Узнав о ранении, ужаснулся. Николай, белокурый, голубоглазый красавчик! Иванушка из русских сказок. Правда, внешность, возможно, и была причиной застенчивости приятеля. Вздыхая, робел он перед девками, оставаясь девственником. Только начал смелости набираться, как на действительную призвали – на год раньше из-за войны. Всего-то двадцать лет ему миновало, не успел побаловаться.
Теперь, с изуродованным лицом, и подавно сдрейфит, хотя, может, наоборот, предположил Дмитрий. Он-то сам уже многое успел: и в армии отслужить, и целомудрие потерять. С женщинами опыта поднабрался, чего греха таить. Но сейчас казалось, что ничего никогда у него не было. Ни с кем. Хотя о чем он? Нашел время, что вспоминать и о чем думать. Хмурые, небритые, в разодранной одежде, никому ненужные – ни своим, ни чужим. Те самые солдаты русской императорской армии, которых француженки закидывали цветами в Марселе. Год назад их отправили как союзников, как спасителей. А теперь не знают, куда запихнуть. Как избавиться. Изолировать, спрятать, потерять. Забыть. На борту их, «непримиримых», а не просто неблагонадежных, было около сотни, может, чуть меньше. Судно могло вместить до двухсот человек, но, видимо, отправлять всех одним разом французам показалось страшновато, потому бунтовщиков разбили на несколько групп. Дмитрий многих знал еще раньше, на «Гималаях» вместе плыли, с некоторыми поближе сошелся за последнее время. Тоже, наверное, вспоминают Дайрен…
«Боярдвиль» плавно и уверенно двигался в сторону пока еще еле заметной полоски суши. Туда ли? Вдали, словно фантастическое видение, показалось выступающее из вод Атлантики овальное сооружение в три яруса. Отродясь таких не видали! Крепость?! Тюрьма?! Господи! Оттуда не сбежишь, не спрыгнешь, да и суши не видно. «Боярдвиль» шел прямо по курсу, не оставляя сомнений: это и есть то самое место, где предстоит провести неизвестно сколько времени, а может, и сгинуть там в ожидании перемен к лучшему. Дмитрий просто кожей почувствовал, как отправленные в далекую ссылку пленники напряглись.
– Что это? Эй, капрал! Как называется? Это? Kec ке сэ?[59] – обратился к сопровождавшему группу французу Иван Пустынов. Так же, как и Дмитрий, он был из второго полка первой бригады. До службы работал на заводе в Подольске, характер имел бойкий, частенько лез на рожон, чем заслужил уважение товарищей: «Наш-то, Пустыня, опять с офицерьем схлестнулся».
– Fort Boyard, – буркнул капрал, бросив недовольный взгляд на Ивана и сказавший что-то по-французски адьютанту-переводчику.
– Это форт Боярд[60], – пояснил переводчик, добавив, что к старшему по званию обращаться следует по форме, но лучше вообще не задавать лишних вопросов. – Нам не туда. Уже близко. Туда, – он неопределенно махнул рукой в сторону все той же полоски суши, очертания которой уже можно было видеть более отчетливо.
У Дмитрия отлегло от сердца. Оставив позади форт Боярд, судно огибало остров слева, приближаясь к береговой линии. Справа по курсу показался еще один форт, пониже, с глухими, почти без бойниц, стенами.
– А это что? Kec ке сэ? – не унимался Пустыня, даже не думая обращаться по форме. – Вот ведь понастроили… Сколько же у вас их тут? Нам не туда?
Переводчик, заверив, что «не туда», успел сказать, что форт называется Энет, что строились фортификации еще во времена Наполеона.
– Ого, – присвистнул Иван. – Значит, поквитаться с нами решил Наполеон. Через сто-то лет…
Ответить ему не успели. Прозвучала команда:
– Внимание! Приготовиться к выходу. L’appel![61]
«Боярдвиль» замедлил ход, причаливая к месту высадки. Вот он, остров д’Экс[62], скрытый за прочной фортификационной стеной, Атлантическое побережье Франции. Да, оттуда точно не выбраться. Знали военные начальники, русские и французские, куда следует упечь распространителей революционной заразы. Дмитрий, сносно говоривший по-французски, еще до отправки успел спросить у одного из французских офицеров: остров-то обитаемый? Офицер посмеялся, похлопал по плечу, заверив, что французы – не враги русским. Он, правда, и сам точно понять не может, за что их ссылают, но верит – вернетесь в Россию.
– А Наполеон так и не вернулся, – уточнил француз после некоторого замешательства, рассказав, что именно с острова д’Экс опальный император вынужден был сдаться англичанам и отправиться на остров Святой Елены. Навечно.
«Навечно», – вспомнил Дмитрий Орлов, замыкая линейку выстроившихся для переклички солдат.
– А это еще зачем? Чего нас пересчитывать? – взвился неугомонный Иван.
– Чтобы унизить, – тихо, со злостью, ответил стоявший рядом Афанасий Филиппенко, родом из Москвы. До войны он работал на одном из заводов, характер имел суровый, бескомпромиссный. Начальство его побаивалось, товарищи уважали. – Отвоевались.
«Ишь ты… Заговорил», – с неожиданным раздражением подумал Дмитрий, отметив, что их строптивый мутэн[63] молчал всю дорогу, а тут вдруг встрепенулся. Солдаты выстроились в две неровные шеренги.
– Румьянцев! Годофф! Носкофф! Анисимофф! Теречченко! Пустинофф! Новикофф! Бельякофф! Дрига! Филиппьенко… Моторьин… Феоктистофф… Крьевенко… Орлофф… Глотофф…
Французский офицер добросовестно выговаривал странные фамилии стоявших перед ним людей, стараясь не смотреть им в глаза. Напрасно. В глазах уже не было ни злости, ни презрения, ни даже любопытства. Просто усталость. Обычная человеческая усталость.
* * *`Из военного архива Château de Vincennes
16 апреля 1918 года. Лаваль. Полковник Баржоне, представитель французского командования русской базы – в Париж, штаб армии, господину военному министру. Донесение:
«Группа из 49 русских военных, в том числе 35 отказавшихся идти на фронт и 14 особо опасных, отбыли 11 апреля сего года из Лаваля в направлении острова д’Экс. Прибыли на место назначения без инцидентов в 9 ч. 40 минут. Я уполномочил французского офицера, сопровождавшего группу, обследовать условия содержания русских на острове. Согласно его рапорту, условия достаточно мягкие. В настоящий момент в казармах находятся сто два узника, но можно разместить от 250 до 300»[64].
16 апреля 1918 года. Штаб армии, третий отдел. Конфиденциально (копия). Приказ для дирекции инженерных войск. Тема: размещение особой штрафной роты на острове д’Экс.
«В ближайшее время необходимо приступить к формированию русской штрафной роты, численность которой достигнет 250 человек. Часть штрафников уже помещена на острове д’Экс, в форте Льедо. (…) Исходя из необходимости проживания всех этих людей в изолированных казармах, штаб армии полагает, что штрафная рота должна быть полностью размещена на острове д’Экс. (…) Штаб армии не видит препятствий в том, что оставшиеся свободные помещения на острове д’Экс, а также прилегающие к нему крепости форт Боярд и форт Энет поступают в распоряжение военного суда. Заместитель начальника штаба армии генерал Видалон»[65].
… Пройдет сто лет, и в одном из знаменитых фортов закрутится приключенческое экстрим-шоу с придуманными испытаниями. В поисках таинственных ключей участники проявят изобретательность, ловкость, упорство. Такой парадокс истории: правда потихоньку уйдет в прошлое. Сотрется, забудется, станет неинтересной. Скучной. Более того – неправдоподобной. Заманчивее окажется вообразить то, чего не было, чем поверить в то, что было.
Глава 2. Мадлен
Мадлен обычно вставала в семь утра, не позже. Однако, узнав накануне, сколько дел предстоит, заставила себя проснуться на час раньше. Полежала еще минут десять в теплой постели, поднялась, поежившись. Приоткрыла окно – пахнуло ночной прохладой. День обещал быть не очень летним, но и не слишком осенним. Ветра нет – уже счастье! Время дождей еще не наступило, солнце, по-осеннему скуповатое, радовало, хоть и не грело. «На жизнь не жаловаться!», – приказала себе, закрывая окно, накидывая на голые плечи теплую шаль. Зашла в детскую комнату – Жюли и Бастьен спали крепко, разметавшись, сбросив одеялки. Потрогала простыню – сухая! Умница, мой малыш, не обмочился, растешь, маме даешь поспать. Чудесные у нее дети, за этот великий шанс можно было многое потерпеть и от многого отказаться.
«Опять? О чем я? Не стыдно? От чего такого отказалась и что такое терпела?», – Мадлен в очередной раз устыдилась собственных мыслей и одновременно порадовалась, что никто не узнает того, о чем она иногда по утрам думает. Именно по утрам, а не по беспокойным ночам, потому что днем уставала так, что только бы до кровати к вечеру добраться. Наспех причесавшись, затянув в узел темные гладкие волосы, надела любимое домашнее платье, подвязала фартук и поспешила на кухню.
Ресторан, где она хозяйничала, назывался «У Реми», по имени мужа, Реми Дебьен. В Рошфоре, Ля-Рошель или еще где-нибудь на материке подобных заведений полно, по нескольку на каждой улице. Другое дело – остров, да еще такой маленький, как ее родной д’Экс. Уютный ресторанчик-кафе на улице Маренго, утопающей в розах и мальвах, был едва ли не единственным местом, где гарнизонные офицеры любили перекусить, выкурить сигаретку, запастись табаком, провести время с семьей. Многих Мадлен знала по имени, приветствовала, спрашивала новости.
Перед войной на острове проживало чуть более четырехсот человек, включая военный гарнизон. С началом войны начали прибывать военнопленные, а значит, и те, кто за них отвечал. Казематы форта Льедо и казармы на улице Монталембер пополнялись. Безмятежный, солнечный д’Экс опять приобретал свое первоначальное грозное значение острова-крепости и острова-тюрьмы. Но жители не роптали. Даже напротив – понимали, что именно присутствие военных поддерживает традиционную коммерцию, вносит оживление в монотонный, чуть замедленный по сравнению с континентом, ритм жизни. Работы у Мадлен прибавилось. В основном справлялась сама, но часто помогали соседки: готовили заранее, с вечера на утро, или днем – на вечер.
Два года назад Реми получил увольнительную. Это было так неожиданно для обоих, что они не успели приготовиться. Встреча получилась натянутая, муж больше времени проводил с детьми, а к ней как-то и не очень подступался. Смотрел с некоторым замешательством, разговаривал неохотно. Вскоре после его отъезда Мадлен осталась одна – Реми погиб в боях под Верденом. Узнав печальную новость, она, конечно, заплакала, но больше из-за воспоминаний о той, как оказалось теперь, последней встрече. Корила, винила себя, не находя никаких оправданий своей сдержанности, почти холодности. Повод для оправданий, может, и был, да только Мадлен старалась об этом не думать, чтобы даже в мыслях не осквернить память о муже.
Двадцать пять лет и уже вдова! Толком не успев понять, что же такое брак. Они с Реми росли рядом, и когда родители решили их поженить, оба не очень удивились. Но и не обрадовались. Просто не поняли ничего. Просто в девятнадцать лет Мадлен стала мадам Дебьен. Через год родилась Жюли, еще через два, за несколько месяцев до начала войны, в семье появился сынок Себастьян – малыш Бастьен, как звали его домашние. Все бы ничего, но прикосновения, поцелуи, робкие, затем настойчивые попытки физического сближения бывшего дружка по детским играм не вызывали ответного желания. Напротив, ей все чаще хотелось оттянуть момент наступления ночи, уйти, сбежать, чтобы не оставаться с мужем наедине. Однажды, не выдержав, молодой супруг попытался поговорить, выяснить причину равнодушия жены, но Мадлен и сама не знала, как это объяснить. Успокаивала себя и его тем, что нужно время, что отношения изменятся к лучшему, надо просто подождать.
И вот – вдова. Все закончилось, едва начавшись. Вместе молодые супруги провели чуть больше трех лет из пяти. Ей надо было по всем правилам приличия одинокой женщины горевать, а она не понимала, о чем. Мадлен терзалась от мыслей, что не сумела полюбить человека, которого ей выбрали родители, осчастливить его короткую жизнь. Измучившись вконец, дала себе слово хранить верность умершему мужу, игнорируя малейшие намеки на флирт. В конце концов, у нее было о ком заботиться. Малыши подрастали, доставляя безмерную радость, а повседневные хлопоты помогали задвинуть прошлое и не особенно мечтать о будущем.