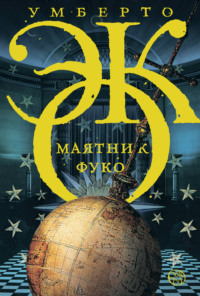
Маятник Фуко
– Возьмем, возьмем ее, – подпел Бельбо, который гипнотизировал страстными взорами какую-то девушку Долорес.
Та и впрямь подсела к нашему столику: – Я тоже хочу знать про историю Аскалона.
– В один прекрасный день собрались французский король, германский император, Балдуин Третий Иерусалимский и два великих магистра, один магистр тамплиерский, другой магистр госпитальерский, и пошли войной на Аскалон. Все отправились воевать, короли, их дворы, патриарх, попы с крестами и хоругвями, архиепископы Тира, Назарета, Кесарии, все в приподнятом настроении, устроили палаточный городок напротив крепости, знамена, вымпелы, барабанная дробь… Аскалон был защищен ста пятьюдесятью башнями, и обитатели заблаговременно готовились к осаде, каждый дом изрешетили амбразурами, мой дом – моя крепость, тысяча крепостей в крепости. Мне просто кажется, что тамплиеры, при их-то опыте, некоторые вещи должны были сами понимать… Тем не менее все ужасно воспалились, понатащили свиней и черепах, это все такие колесные деревянные конструкции, из которых бабахают во все стороны и кидаются камнями, стреляются стрелами, в то время как с дальней дистанции катапульты лупят по крепости кирпичами. Аскалонцы пытаются поджечь эти черепахи, но ветер дует в противном направлении, огонь перекидывается на стены города, и в определенном месте эти стены рушатся. На приступ! Все рвутся в бой единым духом, и тут происходит страннющая вещь. Великий магистр ордена тамплиеров велит огородить дыру в стене, так чтобы в город могли пройти только его собственные солдаты. Злые языки утверждают, что он хотел, чтоб награбленное досталось только тамплиерам. Добрые языки возражают, что, предчувствуя неприятности, он хотел, чтоб тамплиеры приняли огонь на себя. Как бы то ни было, я бы не назначал его командующим сержантскими курсами, так как его решение привело к следующему. Четыре десятка тамплиеров пролетают сквозь город без остановки, шмякаются о противоположную стену, останавливаются и раздумываются, в это время мавры кидаются на них, из всех окошек летят булыжники и льется смола, их уничтожают всех и главного магистра в придачу, пролом в стене ликвидируют, трупы вывешивают на стены и показывают христианам непотребные части тела, хихикая по-мавритански.
– До чего жесток мавр, – процитировал Бельбо.
– Они совсем как дети, – грустно повторил Диоталлеви.
– Этих ребят бы к нам в студенческую дружину, – страстно сказала Долорес.
– Похоже на Тома и Джерри, – подытожил Бельбо.
Мне стало совестно. На самом деле я сожительствовал с тамплиерами вот уже два года и очень любил их. В угоду снобизму моих знакомых я вел свой рассказ действительно в духе мультфильма… А может быть, виноват был Вильгельм Тирский, злораднейший из историографов. На самом деле они не такими были, кавалеры Храма, бородатые, горячие, с огненным крестом на полотне покрывала, летящие на звонких конях под сенью черно-белого знамени, зовущегося Босеан. Они были великолепны, призванные на пир самопожертвования и смерти, и та патина пота, о которой мы знаем от святого Бернарда, вероятно, придавала бронзово-ярое благородство усмешке их ужасного лика… Львы на арене боя, как описывает их Жак де Витри, и нежнейшие агнцы в дни мира, лихие в бою, самоотверженные в молитве, безжалостные с врагами, внимательные к собратьям, избравшие черный и белый цвета для стягов, так как белый – цвет чистоты друзей Христа, а черный – немилосердие к неприятелю…
Милые поборники веры, последние истинные паладины на излете рыцарской эпохи, разве они заслужили, чтоб я над ними хихикал, как какой-нибудь там Ариосто? Вместо того чтобы стать их новым Жуанвилем. Мне вспомнились страницы о тамплиерах в «Истории Людовика Святого», сочинении, автор которого, воин и писец, ходил вместе с королем Людовиком в Святую Землю. К тому времени тамплиеры существовали уже более ста пятидесяти лет и крестовых походов уже состоялось предостаточно, чтобы разочароваться в каких бы то ни было идеалах. Развеялись как сон призраки королевы Мелисенды и Балдуина, прокаженного короля. На время стихли междоусобицы и распри в Ливане, где уже тогда земля горела под ногами. Уже однажды пал Иерусалим, Барбаросса утонул в Киликии, Ричард Львиное Сердце, разбитый наголову и покрытый позором, возвратился на родину, переодетый, кстати говоря, в накидку тамплиера. Христиане проиграли свою войну, а у мавров оказалось совсем иное представление о конфедерации политических субъектов, самостоятельных, но объединенных во имя защиты цивилизации: это были люди, читавшие Авиценну, никакого сравнения с примитивными европейцами. Возможно ли было в течение двух столетий, постоянно соприкасаясь с толерантной, мистичной, либертинской культурой, не поддаться ее обаянию – в особенности имея для сравнения культуру Запада, грубую, низкую, варварскую и германскую? В 1244 году Иерусалим пал в последний и окончательный раз, война, начавшаяся за сто пятьдесят лет до того, была христианами проиграна, и отныне им нечего было делать с мечом на мирных равнинах, в ароматной тени ливанских кедров, бедные мои тамплиеры, для чего, для кого все ваши жертвы?
В нежности, в грусти, в бледном отсвете одряхлевающей славы – не склоняется ли слух к таинственным ученьям мусульманских мистиков, взор – к иератическому созерцанью потаенных богатств? Не тогда ли родилось легендарное представление о рыцарях Храма, до сих пор присутствующее в разочарованных, жаждущих умах, – повесть о безграничной могущественности, не знающей, на что бы ей употребить свою мощь…
И все-таки, хотя миф и погибает, и почти погиб, все же пришел Людовик, христианнейший король, беседовавший за трапезой с Фомою Аквинским, этот король верил еще в силу креста, невзирая на то что два столетия войны были потрачены напрасно из-за глупости победителей, и стоило ли заново пытаться и тратить силы? Стоило, заявил Святой Людовик, тамплиеры пошли за ним и пошли за ним после поражения, это их ремесло, как может существовать храмовник помимо войны в честь Храма?
Людовик атакует с моря Дамиет, на вражеском берегу все сверкает и щетинится оружьем, пики с алебардами, стяги со штандартами, враги имели величественный вид, пишет Жуанвиль с рыцарской вежливостью. Они имели оружье злата звонкого, и на этом злате переливалось солнце. Людовику бы погодить, он же решает десантироваться во что бы то ни стало. «Все, кто мне верен! Будем непобедимы, покуда неразлучны и исповедуем истинную веру. Если нас победят, станем мучениками. Если мы победим, слава Господня усилится». Храмовники думают не совсем так, но их воспитали как воинов, служащих идеалу, и они обязаны соответствовать воспитанию. Они пойдут за королем под всю эту мистическую ахинею.
Высадка, вопреки вероятию, проходит прекрасно, сарацины, вопреки вероятию, бегут из Дамиета, все это так странно, что король не заходит в город, потому что не верит в их бегство. Однако никакого подвоха, город в его власти, со всеми богатствами и с сотней мечетей, которые Людовик незамедлительно переоборудует в христианские храмы. Теперь надо решить важный вопрос: на Александрию двигаться или на Каир? Правильным ответом было бы: на Александрию, с тем чтоб отбить у Египта жизненно важный порт. Но у короля есть злой гений, его брат, Роберт Д’Артуа, с манией величия, с дикими амбициями, с жаждой славы и с комплексом меньшого брата. Он советует идти на Каир, бить в сердце Египта. Тамплиеры, обычно сдержанные, становятся неуправляемыми. Король воспретил одиночные вылазки, тем не менее командующий храмовниками нарушает запрет. Завидев штандарт мамелюков султана, он вопит: «Вперед во имя Господне, ибо я не в силах выносить такого бесславья!»
Под Мансурой сарацины окапываются за рекою, французы запружают реку, чтобы форсировать ее, огораживают плотину крепостями на колесах, но сарацинам известно от византийцев искусство грецкого огня. У грецкого огня рыло толсто, как днище бочки, хвост его подобен копью, он низвергается как гром и похож на дракона, летающего по небу. Из него просиявает такой свет, что на поле боя становится светло, как на рассвете.
Пока христианский лагерь полыхает, как сплошное пламя, один изменник-бедуин указывает королю брод за триста бизантов. Король решает атаковать, переправа непроста, многие тонут, и их уносят воды, на противном берегу ждут триста конных сарацинов. Но вот наконец наши силы достигли берега, и согласно распорядку храмовники скачут в авангарде, им дышит в затылок Д’Артуа. Мусульманские кавалеристы бегут, тамплиеры поджидают остальное христианское воинство. Но граф Д’Артуа и его люди преследуют неприятеля.
Тогда храмовники, дабы не приять бесчестье, кидаются тоже вдогонку. Но прибывают они позднее, нежели Д’Артуа, который успел вскакать в лагерь врага и разнести его в щепки. Мусульмане бегут в Мансуру. Для Д’Артуа это как приглашение, и он снова гонится за бегущими. Тамплиеры пробуют отговорить его, брат Жиль, набольший военачальник Храма, убеждает, что Д’Артуа уже совершил свой героический подвиг, не имеющий равных среди всего содеянного в заморских землях. Но Д’Артуа, этот хлыщ с болезненным самолюбием, обвиняет тамплиеров в предательстве, более того, он заявляет, что если бы тамплиеры с госпитальерами работали получше, эти земли были бы завоеваны бог знает как давно, и вот он им наконец покажет, что такое настоящие солдаты. Слишком сильное оскорбление для ордена. Храмовники бросаются на штурм города, врываются, преследуют противника до противоположной окраины, и тут им в общем становится понятно, что повторяется роковая ошибка Аскалона. Христиане, и в их числе тамплиеры, провозились слишком долго, грабя дворец султана, неверные перегруппировались, снова напали на христианское войско, уже не на войско – на толпу мешочников. Неужели храмовники поддались ослеплению жадности? Нет, другие летописцы сообщают, что, перед тем как последовать за Д’Артуа в город, брат Жиль увещевал его просветленно и стоически: «Господин, я и мои собратья не имеем страха и последуем за вами. Однако знайте, что мы сомневаемся, и изрядно, в том, что вам и нам приведется вернуться живыми». И действительно, Д’Артуа по соизволению Господню был умерщвлен и с ним многие смелые кавалеры и также двести восемьдесят рыцарей Храма.
Это страшнее, чем поражение, это срам. Но история не судит столь строго, даже Жуанвиль не пишет этого: вышло как вышло, в непредсказуемости – красота войны.
Под пером господина Жуанвиля многие подобные битвы, или потасовки, это как посмотреть, превращаются в балетные действа, с ритмичным смахиванием голов с плеч, и с ритмичными обращениями к милосердному Господу, и с пролитием слез королями, чьи верные слуги испускают последний вздох, и все это напоминает цветную кинопостановку, где над алыми попонами с золотыми позументами посверкивают щиты и сабли под желтым солнцем пустыни и на фоне кобальтового моря, и никто не ответит нам, так ли цветисто тамплиеры воспринимали свою ежедневную мясорубку.
Точка зрения Жуанвиля переменчива, то сверху вниз, то снизу вверх, все зависит от того, упал ли он с коня или снова на коне оказался, и в фокусе у него всегда какие-то частные эпизоды, общая драматургия боя ускользает, все сводится к отдельным дуэлям, имеющим почти всегда произвольный исход. Жуанвиль спешит на подмогу шевалье Ванону, турок бьет в него копьем, конь падает на колени, Жуанвиль летит кувырком через голову коня, подымается, в руке у него меч, и мессир Герард де Сиверей («Да отпустит Господь ему прегрешенья») зовет его укрыться в одном полуразрушенном доме, по ним буквально проходится целый взвод конных турок, наши герои встают невредимые, добираются до того дома, баррикадируются внутри, а турки пробуют достать их там своими копьями. Мессир Фридрих де Лупей поражен ударом сзади, «и ранение было таково, что кровь хлестала фонтаном, как из бочки, откуда вытащили затычку», Сиверея рубят наотмашь, и на его лице «нос ополз и оказался на губах». И далее в подобном духе, потом прибывает подмога, они покидают тот дом, перемещаются на другой участок, новая сцена, новые убитые и новые спасения в последнюю секунду, новые молитвы громким голосом господину святому Иакову. На этом фоне слышен крик доброго графа Суассона, в то время как он рубится: «Господин Жуанвиль, пусть эта сволочь орет что хочет, нам приведется еще рассказывать об этом деньке, когда мы будем с дамами!» Король спрашивает известий о своем брате, окаянном графе Д’Артуа, и брат Генрих де Ронней, профос госпитальеров, отвечает ему, что «новости добрые, поскольку вернее всего, что граф Д’Артуа попал в рай». Король отвечает, что слава Господу за все им ниспосылаемое, и крупные слезы катятся у него из глаз.
Не вечно плясаться балету, ангельскому и кровавому танцу смерти. Погибает великий магистр Вильгельм де Соннак, заживо сгоревши от грецкого огня; христианское войско, при великом смердении трупов и при скудости провианта, становится уделом скорбута, армия Святого Людовика разбита, короля измождает дизентерия, до такой степени, что, не желая расходовать время, отведенное для битвы, он разрезает штаны на заду. Пал Дамиет, королева вынуждена переговариваться с сарацинами и выплачивает пятьсот тысяч турских лир за спасение собственной жизни.
Бедой крестовых походов были недальновидность и коварство. В оплоте иоаннитов, Акке, Людовику закатили прием как триумфатору и навстречу ему пожаловал весь город в порядке процессии, с попами и с дамами и с юношеством. Тамплиеры кое-что понимали в обстановке и попытались вступить в переговоры с Дамаском. Людовик узнает, негодует на самодеятельность храмовников, снимает с должности нового Великого Магистра в присутствии послов мусульманской стороны, великий магистр вынужден отказаться от слова, данного на переговорах. Он становится перед королем на колени, просит прощения. Тамплиеров нельзя упрекнуть, что они сражались плохо или не болели за дело; но король Франции унижает их, чтобы утвердить собственную власть; и так же точно, чтобы утвердить власть, через пятьдесят лет его преемник Филипп II отправит тамплиеров на костер.
В 1291 году мавры входят в Акку и убивают всех горожан. Христианское царство в Иерусалиме оканчивается. Орден тамплиеров в этот период состоятельнее, многочисленнее и мощнее, чем когда бы то ни было прежде. Но тамплиеры, рожденные для сражений в Святой Земле, не могут больше оставаться в ней.
Похоронив себя заживо в великолепных капитанствах Европы и в Тампле Парижа, они все еще грезят о нагорье вокруг Иерусалимского Храма во времена их звенящей славы, с дивной церковью Святой Марии Латеранской, вотивными капеллами, пучками трофеев, вспоминают горячую возню в кузницах, в шорных лавках, кучи тканей, ворохи зерна, конюшню на две тысячи голов, беготню оруженосцев, адъютантов, турецкий палаточный городок, красные кресты на белых епанчах, коричневые подрясники служек, посланцев султана в грандиозных тюрбанах и в золотых шлемах, пилигримов, стройное движенье сторожевых нарядов, курьеров, эстафет, и счастье ломящихся закромов, переполненных сейфов портового города, откуда разлетаются распоряжения и приказы и отправляются грузы по назначениям: замки родной страны, острова, прибрежные крепости Малой Азии…
Все кончено, мои бедные тамплиеры.
И тут я обнаружил, тем самым вечером, в «Пиладе», на стадии пятого виски, подносимого мне заботливой рукою Бельбо, что я, похоже, грезил наяву, однако же вслух и с чувством (стыд какой, Господи!) и что-то вещал собутыльникам, причем у Долорес страстно намокали глаза, а Диоталлеви, взбудораженный до предела двумя стаканами тоника, серафически возводил очи горе, а вернее сказать, к совершенно не сефиротному потолку забегаловки и бормотал: – Таковы они и были, души святые и души пропащие, ковбои и рыцари, ростовщики и полководцы…
– Они были своеобразные, – подытожил Бельбо. – А вы, Казобон, ведь их любите?
– Я пишу о них диплом. Кто пишет диплом о сифилисе, в конце концов полюбит и бледную спирохету.
– Ну просто как в кино, – сказала Долорес. – И все-таки я вас покидаю, мне еще надо размножать листовки на завтра, мы проводим демонстрацию на заводе Марелли.
– Везет же некоторым, – сказал Бельбо, усталым жестом погладил ее по голове и заказал, как он выразился, последний виски. – Скоро двенадцать, становится поздно. Конечно, не для взрослых, а для Диоталлеви. И тем не менее я хотел бы еще кое-что узнать, в частности о процессе. Когда, как, почему…
– Cur, quomodo, quando, – подхватил Диоталлеви. – Да, да, вот именно…
14
Утверждает, что за день до того он видел, как пятьдесят четыре брата его по ордену были возведены на костер, потому что не пожелали признаться в вышеуказанных заблуждениях, и он слышал, что они были сожжены, и сам он, не будучи уверен, что проявит должную крепость в случае, если его станут жечь, намерен признаваться, из опасения смерти, в присутствии господ комиссаров и кого еще угодно, если бы его допросили, что все заблуждения, приписывавшиеся ордену, действительно имели место, и, когда был бы к тому побуждаем, сознался бы даже и в том, что убил Господа нашего Иисуса Христа.
Из протокола допроса Эмери де Виллье-ле-Дюка, 13.5.1310Процесс тамплиеров полон недомолвок, противоречий, загадок и глупостей. Глупости бросаются в глаза прежде всего и своей необъяснимостью граничат с загадками. В те счастливые дни я еще думал, будто глупость порождает загадку. А недавно в перископе я, наоборот, предположил, что самые ужасные загадки, чтобы не выглядеть загадками, прикрываются сумасшествием. Наконец, в данный момент мне кажется, что мир – это доброкачественная загадка, которую наше сумасшествие делает ужасной, ибо старается разрешить ее исходя из собственных представлений.
У тамплиеров больше не было цели. Вернее говоря, они сделали целью – средства, они сосредоточились на управлении своими несметными сокровищами. Естественно, что централизующий монарх, такой как Филипп Красивый, относился к ним неприязненно. Мог ли он держать под контролем суверенный орден? Великий Магистр по рангу был равен принцу крови, он командовал армией, распоряжался необъятными земельными владениями, избирался как император и имел в своих руках неограниченную власть. Сокровища короны находились не в руках короля, а на хранении в парижском Храме. Тамплиеры были контролерами, распорядителями и администраторами текущего счета, формально принадлежащего королю. Они вносили на этот счет средства, снимали средства, играли на процентных ставках, вели себя как колоссальный частный банк, но с такими льготами и привилегиями, которыми располагают банки государственные… При этом казначей короля был опять-таки тамплиер. Подите поцарствуйте в такой обстановке.
Не можешь победить – объединяйся. Филипп попросился в почетные тамплиеры. Получил отказ. Обиду намотал на ус. Тогда он предложил папе слить тамплиеров с госпитальерами и передать новый орден под управление одного из его сыновей. Тут Великий Магистр ордена, Жак де Молэ, торжественно пожаловал на материк с Кипра, где он в то время проживал как монарх в изгнании, чтобы вручить папе меморандум, в котором как будто анализировал преимущества, но на самом деле в первую очередь выявлял недостатки подобного объединения. Без всякого стеснения Молэ, в частности, напирал на тот факт, что тамплиеры более богаты, нежели госпитальеры, и что при слиянии одни должны обеднеть для того, чтоб обогатились другие, что нанесет суровый ущерб состоянию духа его кавалеров. И Молэ выиграл первую распасовку начавшейся партии – дело отправили в архив.
Оставалось действовать клеветой. Тут у короля были на руках все козыри – сплетен о тамплиерах гуляло предостаточно. Что, по-вашему, думали об этих «десантниках» рядовые французы, видя, как те собирают дань с колоний и ни перед кем не отчитываются, не обязаны даже – теперь уже – рисковать своей кровью, охраняя Господен Гроб? Они, конечно, французы, но не вполне, они то, что сейчас называют «черноногие», а в те времена «poulains». Совершенно не исключено, что эти «черные» предаются восточному разврату, кто их знает: уж не говорят ли между собой на языке арапов? По уставу они монахи, но для всех вокруг очевидны их развязные манеры, и вот уж сколько лет назад папа Иннокентий III принужден был бороться с ними буллой «О распущенности храмовников». Ими даден обет бедности, а сами роскошны, как наследственные аристократы, скаредны, как нарождающееся купеческое сословие, и неукротимы, как команда мушкетеров.
Немного нужно, чтобы от брюзжания перейти к досадливым наговорам. Мужеложцы! Еретики! Идолопоклонники, обожающие бородатого болвана, взявшегося неведомо откуда. Явно только не из иконостаса богобоязненного христианина! Вероятно, они причастны секретам исмаилитов. Не исключено, что и водят шашни с ассассинами Горного Старца. Филипп и его советники подхватили эти сплетни и довели дело до суда.
За спиной Филиппа маячат его креатуры, Мариньи и Ногарэ. Мариньи – это тот, кто в конце концов наложит лапу на тамплиерское имущество и получит право управления им в интересах короны, вплоть до дня, когда оно должно перейти к госпитальерам, а до тех пор так и непонятно, кто снимает проценты с вкладов. Ногарэ, хранитель королевской печати (министр юстиции), – тот, кем разрабатывался сценарий знаменитого скандала в Ананьи, в 1303 году, когда Шарра Колонна надавал оплеух папе Бонифацию Восьмому и тот, не оправившись от унижения, скончался в течение месяца.
На сцену выходит некто Эскье де Флойран. Он был в тюрьме по неизвестному нам делу и дожидался высшей меры, и тут его подсадили в камеру к раскаявшемуся тамплиеру, также ожидавшему петли, и тамплиер поделился с ним леденящими душу признаниями. В обмен на отмену приговора и на некоторую сумму денег Флойран пересказал все, что слышал. А слышал он примерно те же побаски, которые были на устах у всех. Только в данном случае они оформились в виде следственного протокола. Король известил об этих сенсационных разоблачениях папу. В папской должности в тот год мы видим Климента Пятого, того самого, который переместил престол в Авиньон. Папа и верит и не верит, он, безусловно, учитывает, что тамплиеры – очень крепкий орешек. Наконец в 1307 году он вынужден дать добро на судебное расследование. Молэ об этом информируют. Он заявляет, что совершенно спокоен. Он продолжает участвовать, наряду с королем, в отправлении официальных церемоний – князь среди князей. Климент V тянет резину, королю кажется – что ради того, чтобы дать тамплиерам время свернуть дела. Но тамплиеры и не думают ничего сворачивать. Они продолжают пить и богохульствовать в своих капитанствах, они ничего не подозревают – вот, кстати, первая из загадок этой повести.
14 сентября 1307 года король рассылает запечатанные депеши всем бальи и сенешалям своего государства, требуя массовых арестов и конфискации имущества тамплиеров. От рассылки ордеров до операции, которая была проведена 13 октября, проходит месяц. Тамплиеры ничего не подозревают. Утром условленного дня они все оказываются в мешке и – еще одна неразгаданная загадка – сдаются, не пытаясь избежать ареста. Заметьте кстати, что в непосредственно предшествовавшие дни офицеры короля, дабы ни одна крупица добра не ускользнула от экспроприаторов, проводят полную инвентаризацию имущества тамплиеров, пользуясь совершенно неправдоподобными предлогами. А тамплиеры ничего, проходите, господин бальи, описывайте что хотите, чувствуйте себя как дома.
Папа, когда услышал о массовых арестах, попытался что-нибудь сделать, но было уже слишком поздно. Королевские пристава пустили в дело веревки и железо, и многие кавалеры, по применении пыток, начали каяться. Назад уж пути не было, полагалось передавать их в распоряжение инквизиции, инквизиторы в ту эпоху к огню еще не прибегали, но эффективная методология у них была. Покаяние приняло массовый характер.
И вот перед нами третья по очереди загадка. Конечно, верно, что пытка была применена, и довольно серьезно, так что тридцать шесть подсудимых от нее умерли, но ведь это были несгибаемые люди! Привыкшие не тушеваться перед лютыми турками! Оказавшись перед прокурором, все тушуются. В Париже только четверо рыцарей, из четырехсот, отказались давать показания. Остальные признавались во всем, в том числе и Жак де Молэ.
– В чем во всем? – спросил Бельбо.
– Они признавались именно во всем том, что требовалось прокурору. Очень мало чем отличаются одни показания от других, по крайней мере во Франции и в Италии. В Англии же, напротив, где прокуроры работали вяло, протоколы содержат все те же стандартные обвинения, но речь идет о лицах, не состоявших в тамплиерах, и в основном цитируются понаслышке. В общем, храмовники сознаются только там, где кто-то очень сильно хочет этого, и только в том, в чем хотят, чтоб они сознались.
– Нормальный инквизиционный процесс. Не первый и не последний, – заметил Бельбо.
– Однако поведение подсудимых нетипично. В главных пунктах обвинения утверждается, что рыцари во время инициации троекратно отрекались от Христа, плевали на распятие, разоблачались и были целуемы в нижние части спины, то есть, попросту говоря, в зад, а после этого в пуп и в рот, «поносно людскому достоинству», и предавались взаимному смыканию, как свидетельствует текст. Это оргия. Потом им показывали бородатого идола и они обожали его. Что же отвечают сами допрашиваемые на подобные обвинения? Жоффруа де Шарнэ, тот, которого сожгут на костре вместе с Молэ, говорит, что да, дело было, он отрекался от Христа, но лишь на словах, а не в сердце, и не помнит, плевал ли он на распятие, потому что в тот вечер все торопились. Относительно поцелуев в заднюю часть, это тоже было, и он слышал, как прецептор Овернский говорил, что естественнее сочетаться брату с братом, нежели осквернять себя с женщиной, однако лично он никогда себя не допускал до плотского греха с остальными кавалерами. Итак, в общем все оказываются виноваты, но у всех получается, что все делалось как бы понарошку, что никто на самом деле не придавал ничему значения, если кто и натворил дел, то не я, я просто не уходил из вежливости. Жак Молэ – не последняя спица в колеснице! – показывает, что, когда ему протянули распятие – плюнь-ка, – он плюнул мимо, на землю. Он соглашается, что инициационные ритуалы обстояли примерно так, как говорит господин судья, однако – вот незадача! – сам бы он не мог описать их в подробностях, потому что лично он не инициировал за свою жизнь практически никого. Еще один подсудимый допускает, что поцелуи действительно были, но он лично никого не целовал в зад, а только в рот, но другие его самого целовали и в зад, это правда. Некоторые признают даже больше, нежели требуется. Не только отрекались от Христа, но и утверждали, что Христос преступник, отказывали в девственности Деве Марии, а на распятие так даже мочились, и не только при обряде инициации, а и в течение всей Страстной недели, и не веровали в таинства, и обожествляли не только Бафомета, а даже и дьявола в кошачьем обличье.

