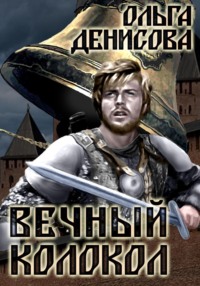
Вечный колокол
Разговор с мальчиком не удовлетворил Млада: дело не в телесной слабости – тот рос, окруженный женщинами и жрецами, и не представлял себе, что значит быть мужчиной. Он был на два года старше, чем Млад ко времени своего испытания, но эти два года ничего не дали для его взросления.
Рассказ о пересотворении напугал Мишу. Млад держался на грани: как не напугать, но и не обмануть? И все равно напугал, хотя не сказал и десятой доли того, что знал перед испытанием сам. Млад вывел мальчика на берег Волхова, когда месяц вынырнул из тумана. Кипенно-белое пространство простерлось впереди, сзади тепло светились окна в теремах университета, лаяли собаки в Сычёвке, замер заснеженный лес. Месяц плыл сквозь молчаливую зимнюю ночь, то кутаясь в облаках, то освещая землю ровным синеватым светом.
– Посмотри вокруг. Красиво, правда?
Миша глядел с любопытством и не понимал, о чем говорит Млад.
– Мир, в котором ты живешь, – прекрасен. Он прекрасен каждый час, каждый миг. Жить в этом мире – большое счастье. Что бы с нами ни случалось, как бы тяжело нам ни было, надо помнить об этом.
Юноша кивнул, но слова Млада не тронули его сердца. Может быть, потом, чуть позже, он вспомнит их и поймет?
Млад выделил ему свою спальню, а сам перебрался в спальню к ребятам, на лавку: нет ничего мучительней во время шаманской болезни, чем невозможность остаться в одиночестве. А в незнакомом месте, да еще и зимой, юноше будет трудно уединиться.
Разглядев у Млада шаманскую болезнь, дед на следующий же день построил в лесу шалаш – небольшой и уютный. Пол он выстлал лапником и сверху навалил душистого, только что высушенного сена, стены сложил из дубовых и березовых ветвей, так что внутри шалаш заполнял мягкий зеленый свет. Млад – тогда еще Лютик – хотел ему помочь, но дед отправил его домой со словами:
– Побудь с матерью. Она места себе не находит.
Однако стоило Лютику переступить порог дома, на него снова навалились тоска и раздражение, и он сбежал в лес. Мама не плакала, но Лютик видел, как ей трудно: она старалась лишний раз к нему прикоснуться, приласкать. И смотрела, смотрела не отрываясь, не мигая, словно хотела налюбоваться на всю оставшуюся жизнь. Глядя на ее страдания, Лютик впервые подумал, что будет, если он не сможет выдержать испытания. До этого он и мысли не допускал о том, что может умереть, теперь же сомнение поселилось в его душе. Вдруг мама чувствует его смерть? Да и отец время от времени клал руку ему на плечо, смотрел украдкой, и лицо его искажала гримаса страдания и боли.
Лютик начал смотреть по сторонам – не предвещает ли что-нибудь его скорой гибели? Дед учил его замечать знаки опасности: когда вороны кричат просто так, а когда – чуя беду; как дует ветер, если хочет предупредить; как течет в реке вода. Ветра не было вообще, вороны почему-то молчали, а речушка возле дома журчала себе меж берегов и ни о чем не говорила. Только петух время от времени оглашал двор радостным кукареканьем, но Лютик так и не разобрался, правильно он кричит или нет, хотя дед много раз объяснял ему разницу.
Посоветоваться с отцом он не решился: вдруг тот посчитает его сомнения слабостью и страхом?
Волнение Лютика, хоть и таило в себе некоторые опасения, было скорей радостным. Когда на него «накатывало», он уже не пугался. Во всяком случае, не рвал рубаху и не царапал грудь, хотя иногда этого очень хотелось.
Теперь каждый раз, убегая в лес, – а это случилось за последний день раз семь или восемь, – он оказывался в том самом тумане, из которого его звали голоса. Но Лютик, слушая советы деда, остерегся говорить с духами.
Последнюю ночь он ночевал дома, и мама сидела рядом с ним. Отец ворочался в постели и скрипел зубами.
– Оставь его в покое, – ворчал дед на маму, – ему и без тебя тошно!
– Я только посижу рядом. Я не трогаю его, не держу. Я просто рядом посижу, хорошо, сыночек?
Лютик, жалея ее, кивал, но на самом деле ему было невыносимо оттого, что на него кто-то смотрит, да еще со страхом и жалостью. Он не мог долго лежать в одном положении, но чем больше ворочался, тем более сострадательным становился мамин взгляд. Хотелось крикнуть, чтобы она ушла, не мучила его, но он не посмел. Ему ломало суставы, он вытягивал ноги и до боли распрямлял руки, но вскоре и это перестало помогать. Если бы не мама, он бы сделал что-нибудь, но боялся ее напугать.
Воздух казался ему затхлым, душным, он вдыхал его с трудом, глубоко и шумно, и опять же старался делать это не так заметно, но мама все видела и слышала. Он стискивал кулаки, отворачивался от нее, но чувствовал ее взгляд спиной – так отчетливо, что сводило мускулы на спине. Потом и руки начало скручивать судорогой, стоило только потянуться, и ноги, и живот, – ему казалось, что мышцы отрываются от костей, с такой силой они сжимались. Он едва не расплакался, так это было больно. Мама закрыла рот руками и зажмурилась, и из крепко сомкнутых губ ее все равно прорвался тихий стон.
– Отойди от него! – прикрикнул дед. – Немедленно!
Но мама, напротив, склонилась к Лютику и прижалась лицом к его ногам. Он не хотел ее обижать, однако это переполнило чашу терпения: Лютик вскочил с постели, надеясь убежать из дома, но ноги подогнулись, едва коснувшись пола, и он упал навзничь, стукнувшись головой. Судорога охватила все тело, он отчаянно закричал и почувствовал, что задыхается. Рот наполнился пеной с привкусом крови, она потекла обратно в глотку – боль рвалась наружу криком, и Лютик захрипел. Ему казалось, что хрустят кости, выворачиваются суставы и ребра расходятся в разные стороны. Что-то кричал дед, вскочил отец, в голос рыдала мама, и Лютик думал, что от их крика его скручивает еще сильней.
Отпустило его через целую вечность – он бы очень удивился, узнав, что судороги продолжались совсем недолго. Он боялся шевельнуться и вздохнуть, ему казалось, что малейшее движение снова вызовет припадок.
– Не прикасайтесь к нему! – рявкнул дед на родителей. – Вы хотите, чтобы это повторилось?
Слезы бежали из глаз, все тело болело, и прошло немало времени, прежде чем Лютик попробовал шевельнуться. Дед склонился над ним и вытер ему лицо полотенцем, подложил руку под голову, на которой набухала ощутимая шишка. Подождав немного, он бережно поднял Лютика на руки и переложил на постель.
– Если сейчас не уснешь, я провожу тебя в лес, – угрюмо сказал дед. – Полежи, отдохни. В шалаше тебе будет легче.
Лютик осторожно кивнул. Потом он все же задремал, а проснулся, когда окна заметно посветлели. Мама сидела у окна, закрыв лицо руками, отец обнимал ее за плечо, дед лежал на лавке, положив руки под голову и закинув ногу на ногу.
Мышцы подрагивали, и внутри снова собирался невыносимый зуд. Лютик побоялся потянуться и встал с постели, стараясь не делать лишних движений. Дед сел, и мама оторвала руки от лица, а отец вскинул голову и посмотрел на сына с тоской и страхом.
– Я пошел, – тихо и виновато сказал им Лютик.
Мама опять зажала руками рот, и слезы побежали у нее из глаз. Дед кивнул ему и спросил:
– Тебя проводить?
Лютик покачал головой: уже почти рассвело, и заблудиться он не боялся.
– Я буду приходить к тебе два раза в сутки. Посмотреть, и вообще… – дед вздохнул. – Я там воду поставил…
В шалаше было спокойней только первые несколько часов. Конечно, никто не смотрел на Лютика, он мог ходить вокруг, когда ему заблагорассудится, но болезнь становилась все тяжелей, и хождения уже не помогали. До вечера с ним дважды случались судороги, но он научился угадывать их приближение и ложился на живот: так было легче терпеть. Зато после припадка он получал часа два покоя и дремал. Есть ему не хотелось, так что о трехдневном голодании он не тревожился.
Следующие дни превратились в непрерывный страшный сон. Резкий звук или яркий свет, неосторожное прикосновение к чему-нибудь тут же вызывали судороги, и иногда Лютик не успевал перевернуться на живот. Зуд уже не проходил, и Лютик сам не знал, что легче – мучиться от боли или от разрывающего грудь напряжения. Он окунался в туман забытья так часто, что не мог отличить его от яви, но теперь никто не звал его, и он блуждал там в одиночестве, надеясь встретить кого-нибудь.
Он еще побаивался тех существ, что кружили в тумане вокруг него, и с опаской озирался по сторонам, вспоминая, что не должен бояться.
К вечеру третьего дня судороги прекратились, но Лютик настолько ослаб, что не мог встать. Он забыл про воду и не пил почти сутки. Деда он не видел – наверное, тот приходил, когда Лютик бродил в тумане.
Он лежал на сене почти неподвижно, не имея сил даже потянуться. Внутри него все клокотало, кипело и пенилось, и от бессилия лились слезы. Судороги и то переносить было легче, чем эту пытку неподвижностью. Лютику казалось, что он умирает, что напряжение разрывает его изнутри. Вялые зеленые ветви над головой сменялись молочно-белым туманом и возвращались обратно, когда Лютик вдруг понял, что если немедленно не встанет, то умрет. Он собрал в кулак всю волю, с криком вскочил на ноги и помчался вперед. Туман оседал на лице мелкими каплями, Лютик не видел ничего впереди себя, но его опасения показались ему жалкими и ничего не стоящими.
– Ну? – крикнул он на бегу. – Где вы? Это я, Лютик!
– Лютик? И чего тебе надо, Лютик? – услышал он насмешливый вопрос и от неожиданности остановился.
– Я готов стать шаманом, – выпалил он.
Млад так и не узнал, поднимался ли дед наверх перед его пересотворением, просил ли духов о снисхождении… Сначала ему хотелось думать, что нет: он верил, что прошел испытание сам, без чьей-то помощи. Потом, когда дед умер, Младу важно было сознавать, что дед любил его и не мог за него не просить. Да и пересотворение стерлось из памяти, перестало казаться таким уж невозможным испытанием. В конце концов, он остановился на мысли, что дед все же просил за него, но духи его не послушали.
Оставив Мишу одного, Млад собрался подняться наверх. Это было тяжело. Он не ужинал, но щи, съеденные в обществе Пифагорыча, явно не пошли на пользу, как и плотный завтрак. Млад боялся, что не успеет вернуться до утра, прийти в себя до начала занятий, поэтому торопился. Костер горел бездымно, и жар его уходил в небо, не согревая воздух вокруг; кожа бубна на морозе стала хрупкой и не давала нужных звуков.
Млад понимал бесполезность этого подъема: никто не послушается его, – наверное, даже не станут слушать. Ни духам, ни богам не нужны шаманы, не прошедшие испытания, не имеющие воли к жизни. Зачем он затеял это? Чтобы сказать себе потом: «Я сделал все, что мог»?
Первым, кого он увидел, достигнув белого тумана, был огненный дух с мечом в руках… Белый шаман видит духов нижнего мира только во время пересотворения, когда решается вопрос, будет он подниматься или спускаться. И духом нижнего мира Михаил-Архангел не был, но это был враждебный и очень сильный дух.
Темные шаманы борются с духами – белые с ними договариваются. Млад немного растерялся, поглядев на свой бубен – единственное, что было в руках против меча… Конечно, убить его архангел не сможет, но сбросит вниз, а удар о землю будет таким же настоящим, как пересотворение. То, что происходит в помраченном сознании шамана, – всего лишь другое настоящее.
– Пришел? – раздался голос за спиной.
Млад оглянулся: из тумана появилось существо, похожее на человека и на птицу одновременно. Голова у него была птичья, с огромным твердым клювом, и из рукавов рубахи торчали трехпалые когтистые лапы, но во всем остальном он оставался человекоподобным. Млад встречал его только однажды и называл про себя человеком-птицей: это он разбирал тело Лютика во время пересотворения. Минуло много лет, но и теперь душа ушла в пятки и по телу пробежала дрожь: отвратительные, жуткие подробности испытания всплыли в памяти, словно это случилось вчера. Он еще не был шаманом, он был маленьким наивным Лютиком…
Духи подхватили его со всех сторон, все вокруг закружилось – вереница лиц, морд, клювов, клыков, когтей… Лютик еще не боялся, просто был немного ошарашен. Вмиг он остался без одежды, его тело повисло в воздухе, если это был воздух. Он чувствовал себя невесомым, но не мог двигаться. Тело больше не подчинялось ему, и от этого стало немного тревожно. Дед говорил, что он должен доверять духам, они не хотят ему зла, но почему-то, глядя вокруг, никакого доверия к ним Лютик не испытывал. Странно: голову он поворачивать не мог, но видел все вокруг себя, и свое тело, и то, что под ним, – белую подушку тумана.
Беспомощность всегда оборачивается страхом, и Лютику неожиданно захотелось расплакаться. Дед говорил, что будет очень больно… Лютик не думал об этом до тех пор, пока не оказался в полной власти этих странных существ. А вдруг он не выдержит?
Над ним склонился человек-птица и внимательно осмотрел со всех сторон, деловито поворачивая его тело. А потом оторвал от ноги первый лоскут кожи. Лютик бы вскрикнул, но понял, что горло его не может издать ни звука. А когда за первым лоскутом последовал второй, Лютика охватило отчаянье.
Духи разбирали его тело на части долго и неторопливо, словно боялись пропустить что-то важное. И Лютик кричал – или думал, что кричит. Сначала он просил, умолял отпустить его, но никто этого не слышал. Всепоглощающее отчаянье наполняло его до краев, и в голове не было мыслей – он думал только о том, как ему больно, и искал выход, надеялся что-то изменить. Он уже не хотел быть шаманом, он хотел вырваться, освободиться.
«Мир, в котором я живу, – прекрасен». Мысль прилетела откуда-то издалека и стукнулась в висок, как ночная бабочка в окно. Первое потрясение прошло, и Лютик вспомнил, что обещал деду быть сильным. Только очень сильные люди становятся шаманами. Боль, наверное, не уменьшилась, но желание быть сильным погасило страх и отчаянье. И если бы ему дали возможность кричать, он бы перестал просить пощады.
А крики просились наружу, и оттого, что их никто не слышит, становилось еще тяжелей. Лютик быстро потерял счет времени, – оно казалось ему вытянутой нитью, такой же тонкой, как и бесконечной. Боль стала его существом, он пропитался ею насквозь и начал думать, что так было всегда и так навсегда и останется. Он не умрет. Он обещал деду, что не оставит их, и выполнит обещание.
«Мир, в котором я живу, – прекрасен». Лютик заставлял себя не смотреть на человека-птицу, на его когти. Он хотел примириться со страданием, принять его невыносимость как должное и думать о хорошем.
Млад тряхнул головой: это было давно. Он прошел испытание – и ни разу не попросил духов о смерти. Он понял, что от страдания его освободит только смерть, и не захотел ее. И выдержал все: его тело разорвали на куски, скелет разобрали по косточкам, выворачивая сустав за суставом; его варили в котле: плоть – разорванная, расчлененная, мелкими ошметками лежавшая в котле, – все равно чувствовала жар. Бесконечность… Что-то вроде забытья… Много часов… Он думал, что умер. Ему чудился ветер, который шевелит волосы, и дождь, капли которого поцелуями падают на щеки. Он лежал в высокой траве под дубами и ловил капли ртом. «Помоги мне, – думал он, – помоги мне снова стать живым, помоги мне вернуться домой». Он не знал, у кого просит помощи, – то ли у каменного идола, возвышавшегося над ним, то ли у неба, распростертого перед глазами, то ли у дождя, целовавшего его лицо. Пахло мокрой травой и землей, и тоска зазубренным лезвием царапала сердце… Мир, в котором он жил, был прекрасен. Прекрасен, как глоток ледяной воды из родника, комком встающий в горле. Он хотел туда, в дубовую рощу, он хотел этого мира, он хотел травы, и ветра, и дождя.
– Просить пришел… – оборвал его воспоминания человек-птица.
Млад кивнул, безотчетно подавшись назад: он до сих пор боялся этого духа.
– Понимаешь же, что это бесполезно, а?
– Понимаю.
– Зачем тогда поднимался?
– Я… Мальчика хотели увести чужие боги, он не знал, что рожден шаманом. – Мысль созрела в голове внезапно, как озарение. – Он еще не готов. Ему нужно время, чтобы прийти в себя, понять, кто он есть. Я прошу отсрочки.
– У него есть десять дней. Три из них он проведет в одиночестве, так что у него – десять дней, а у тебя – неделя, – ответил человек-птица.
– Скажи… Через тебя прошло столько шаманов… Как думаешь, он выдержит испытание?
– Это зависит от него. Если бы ты знал, как часто мне приходилось ошибаться в людях! Люди – странные и непонятные нам существа. Я, например, не сомневался, что ты умрешь, ты был слишком мал и совсем не походил на других шаманов. А иногда с виду сильный и непробиваемый парень отказывается от жизни, едва с него слетит лоскут кожи. Я ничего не могу тебе сказать. Воля к жизни – неясная для нас сущность.
– А вы… вольны помочь шаману при пересотворении?
– В этом нет смысла. Если у шамана нет воли к жизни, он не вернется из первого же путешествия – не сможет вернуться, если мир яви не притягивает его обратно. Я могу пообещать тебе только одно: мы поддержим его. Впрочем, мы поддерживаем всех – кого-то насмешкой, а кого-то сочувствием.
Глава 3. Гадание в Городище
Собираясь в Городище, Млад боялся оставлять Мишу одного так надолго. Два дня он между лекциями бегал домой – проверить, все ли в порядке. Теперь же раньше сумерек он вернуться не рассчитывал. Впрочем, Миша немного освоился, запомнил нахоженные тропинки в лесу, не путался в наставничьей слободе, да и Ширяй с Добробоем оставались дома.
Млад поехал верхом, хотя декан предлагал ему сани, чтобы подчеркнуть богатство университета и его наставников. Младу стоило большого труда убедить его в том, что среди волхвов не принято кичиться богатством, и роскошные коллежские сани вызовут только недоверие и осуждение. Большинство придет пешком.
На волхва Млад тоже походил мало, как и на шамана. Не было в нем ни отрешенного взора, ни гордого разворота плеч, ни мудрости, угадывавшейся с первого взгляда. Он всегда казался и меньше своего роста, и у́же в плечах, и моложе, чем был на самом деле. Не то чтобы он страдал от этого, но иногда, особенно при знакомстве со студентами, его это беспокоило. И теперь беспокоило тоже – сход собирался представительный: и юный князь должен был на нем присутствовать, и посадник, и боярская верхушка, и кончанские старосты. Млад все еще недоумевал: почему его позвали тоже? Шаманом он был сильным и опытным, ничего не скажешь, на вершине своих возможностей, но как волхв-гадатель немногого стоил.
Его отец унаследовал способности к волхованию от своей матери, и дед развивал их в нем с раннего детства, зная, что шаманом тот не будет никогда. Отец стал видным врачевателем, за долгую жизнь овладел множеством способов и средств лечения болезней, и, хотя не учился в университете, пользовался среди врачей большим уважением. Млад к врачеванию никаких способностей не имел, зато будущее приоткрывалось ему с легкостью, будь то погода или виды на урожай. Он с первого взгляда отличал хороших студентов от лентяев, иногда мог отличить темного шамана от белого во время шаманской болезни, когда и боги не знали, кем тот станет в итоге пересотворения. Млад каждый раз боялся ошибиться и не спешил делиться с кем-то своими соображениями, даже с самим собой иногда. А рядом с сильными, «настоящими» волхвами и вовсе казался себе жалким и ничего не стоящим. Разве что с погодой он был вполне уверен в себе, но шаману-облакопрогонителю стыдно было бы не уметь предсказывать погоду. А наставнику, всю жизнь посвятившему земледелию, трудно ошибиться в том, каким вырастет хлеб на полях.
Вопрос о смерти князя Бориса никак не касался его способностей и умений. Он не представлял, с какой стороны к этому подходить, и уповал на сильных волхвов, которые укажут ему дорогу. Возможно, в окрестностях Новгорода сейчас нет сильных гадателей, поэтому и собирают слабых, чтобы решить задачу не умением, а числом.
Перед высоким земляным валом Городища собралось много людей – наверное, половина Новгорода явилась. Млад хотел проехать сквозь толпу верхом, но люди с его пути расходиться не спешили, а, напротив, поругивались, шипели и орали:
– Ну куда на коне-то прешь?
Пришлось спешиться и вести лошадь в поводу. В конце концов, Млад оставил ее в посаде, возле какой-то избы с одинокой старухой, заплатив той одну денежку. У въезда на площадь перед княжьим теремом толпилось столько зевак, что пробиться к страже у него никак не выходило: его толкали, пихали в бока локтями и покрикивали:
– Самый хитрый? Все посмотреть хотят!
Млад оправдывался тем, что ему надо попасть на площадь, но никто его оправданий не слушал. К стражникам он пробился изрядно потрепанным: в распахнутом полушубке, в треухе, съехавшем набок, с оттоптанными ногами, отчего натертые до блеска сапоги перепачкались так, будто он чистил конюшни.
– Куда? – спросил стражник, смерив Млада взглядом с ног до головы.
– Я? Мне надо на площадь. Меня позвали, вот… – Млад полез за пазуху и достал помятую грамоту.
Стражник посмотрел на него так, будто Млад эту грамоту украл, и подозвал напарника; теперь они подозрительно глядели на него вдвоем.
– Что-то не похож ты ни на волхва, ни на наставника… – проворчал напарник, открывая Младу дорогу. Млад вздохнул и пожал плечами.
Кроме прибывших из Новгорода и окрестностей, на площадь вышла дружина князя, их любопытствующие жены и дети, собралась челядь княжьего терема, – яблоку некуда было упасть. Млад потоптался немного, приподнимаясь на цыпочки и надеясь высмотреть хоть одно знакомое лицо, но за толпой ничего не увидел и стал протискиваться ближе к терему.
Высокий терем князя правильней было бы назвать дворцом, но с тех пор как вече стало избирать князей и селить их на Городище, дворцом жилище князя в Новгороде уже не называли, тем самым в чем-то уравнивая его в правах с прочими знатными людьми города. И, в отличие от каменных палат новгородского посадника, строили княжьи хоромы из дерева, но как строили! Заморские зодчие, что помогали застраивать детинец, не годились в подметки русским мастерам!
Только Большой терем университета мог сравниться с княжьим размерами и величием, но по красоте явно ему уступал: терем ступенями поднимался к небу, возвышаясь над крутым берегом Волхова, и смотрел на все четыре стороны. К северу – к Новгороду – обращался его служилый лик: напротив главных ворот, перед широкой площадью на двадцати резных дубовых столбах держался широкий огражденный помост, подобный вечевой степени7, с которого князь говорил с людьми. К югу – к прибывающим гостям – терем являл лик воинский и более напоминал старинную деревянную крепость; там подъемный мост надо рвом закрывал ворота, узкие окна походили на бойницы, и на круглой открытой башне стояли три тяжелые пушки. С той же стороны разместилась дружинная изба, и двор предназначался для упражнений дружины в воинском искусстве.
К западу – к Волхову – терем поворачивался высокими башенками и узорчатыми окнами; словно красуясь, любовался на свое отражение в реке и виден был на десятки верст окрест. Перед ним, на узкой полосе перед обрывом, стояло небольшое требище, сверху похожее на цветок. На восток – к посаду – княжий терем обращал лик домашний, простой: что ж притворяться перед своими? Там находился задний двор, ворота для проезда подвод, поварни, амбары, дровни, хлебные и кладовые.
Волхвы собрались под широким помостом – на самом деле около сорока человек. Млад пробирался к ним под косыми взглядами дружинников и их отроков, когда увидел волхва Белояра, шедшего к терему через площадь: толпа расступалась в стороны, пропуская его, молодые почтительно кланялись, старшие – преклоняли головы в знак уважения. Белояр, одетый, невзирая на мороз, лишь в белый армяк до пят, опирался на посох и смотрел поверх голов, – высокий, ширококостный, с белой головой, с гладко выбритым подбородком, что делало его лицо открытым и чистым. В его взгляде не было превосходства над толпой, и никто не посмел бы обвинить его в пренебрежении к людям. Он словно находился далеко отсюда, словно был слишком занят своими мыслями, чтобы посмотреть вокруг себя.
Млад, случалось, тоже пребывал в раздумьях, когда шел по улицам Новгорода, но почему-то неизменно натыкался на прохожих, которые советовали ему не считать ворон, а смотреть под ноги. Надо думать, белый армяк до пят, даже вместе с посохом, ему бы не помог…
– Млад Мстиславич! – наконец-то окликнули его со стороны терема. – Где ж ты ходишь?
Ему навстречу вышел Перемысл – волхв с Перынского капища, один из тех, кто писал ему грамоту с приглашением. Перынское капище считалось княжеским, хоть и находилось на противоположном берегу Волхова, довольно далеко от Городища, и было одним из самых именитых капищ Новгородской земли. В каменном храме горел неугасимый огонь, когда-то зажженный молнией, в память о воинах, которые погибли, защищая Новгородскую землю; храм мог вместить больше тысячи человек – почти всю княжескую дружину. Каменное изваяние бога грозы впечатляло даже иноземных гостей, хотя мало кто из них отваживался приближаться к проклятому их богами идолу. На капище трудились пятеро волхвов и десяток их помощников. А напротив, на правом берегу Волхова, стоял храм Ящера, – извечного противника громовержца, хозяина Ильмень-озера. Когда-то, когда оба капища стояли под открытым небом, два кумира глядели друг на друга и внушали ужас иноземцам, шедшим в Новгород с юга.