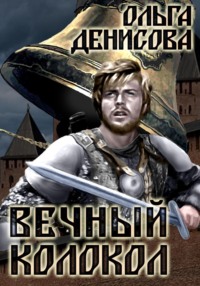
Вечный колокол
Университет шумел. Перед теремом отделения права стояли студенты, на крыльце кто-то из ребят со старшей ступени говорил речь – до Млада долетали только отдельные слова: «татары», «до поры», «покарать». В окнах естественного отделения горели свечи и мелькали тени: и в учебной комнате, и в трапезной собрались студенты; из окон врачебного терема доносились выкрики спорщиков, перед теремом механиков шла драка – Млад подошел поближе, но увидел, что драка ведется честно, один на один, и арбитров10 хватит без него. Тише всего было на горном отделении, и свет горел только внизу, в трапезной. Наверное, тишина – самое недоброе предзнаменование в такой час. Млад покачал головой, но заходить не стал: студенты – люди хоть и молодые, но вполне взрослые, разберутся без наставников.
Дома его ждал Пифагорыч – бросил сторожку в такое время!
– Здоро́во, Мстиславич. Извини, что без приглашения, – старик поднялся Младу навстречу.
На печке парил чугунок с медом, Ширяй сидел склонившись над книгой, а Добробой, как обычно, заправлял застольем.
– Здоро́́во, – Млад стащил с головы треух. – Сиди, я тоже с вами меду попью.
– Наслышан я о твоих подвигах на Городище. Послушал старика? – Пифагорыч сел на лавку и подмигнул Младу.
– Считай, что послушал, – вздохнул Млад.
– И как? Татары это или не татары?
– Если бы знал, что это татары, – подписал бы грамоту. Похоже, конечно, было. Но… не уверен я. А теперь – и вовсе не уверен.
– А теперь-то чего? – поднял голову Ширяй.
Распространяться о разговоре с ректором при ребятах Млад не хотел.
– Да, чудится мне, что все это как нарочно придумано.
– А я что говорил! – Пифагорыч поднял палец. – Татарва, конечно, совсем совесть потеряла, гнать их надо из Новгорода. Но и без них врагов хватает. Я так считаю: всех надо разогнать. И жрецов иноземных, и немцев, и литовцев. Да и бояр на место поставить не мешает.
Млад сел за стол, и Добробой тут же поставил перед ним горячую кружку.
– Знаешь, Пифагорыч, говорить, конечно, легко. А у нас, между прочим, пятнадцать ребят из Казани учатся. Их тоже гнать?
– Не, они же наши! Свои, можно сказать, обрусевшие…
– Да какие они обрусевшие! – вскинул голову Ширяй. – Если они по-русски говорить могут, это еще не значит ничего! Сначала научатся у нас наукам разным, а потом их против нас же и повернут! Хан Амин-Магомет тоже у нас учился, и что?
– Ты старших не перебивай, – назидательно сказал ему Пифагорыч. – Распустил тебя Млад Мстиславич! Батька ложкой по лбу не бил за такие дерзости?
– Пусть говорит, – усмехнулся Млад, – это хорошо, когда молодые спорят.
– Спорить – одно, а вести себя со старшими непочтительно – совсем другое. Выслушай сначала, дождись, когда тебя спросят, тогда и говори.
– Да меня никогда не спросят! Кого волнует, что я думаю?
– Потому что ты молокосос еще, – отрезал Пифагорыч и повернулся к Младу. – Так что с нашими татарчатами-то?
– Спрятали их на всякий случай, в наставничьей слободе переночуют, а завтра видно будет.
Дверь скрипнула, и на пороге показался Миша – притихший, ссутулившийся, с шапкой в руках. Он прикрыл за собой дверь и начал снимать шубу.
– Миша, будешь мед пить? – тут же спросил Добробой.
Тот пожал плечами.
– Садись, мед горячий! – Добробой подбежал к двери и подхватил шубу, которая едва не выпала у Миши из рук на пол. – Садись.
– Ага, – тихо ответил тот и, озираясь, подошел к столу.
– Ну что скуксился? – подмигнул ему Млад.
– Прости меня, Млад Мстиславич… – Миша опустил голову.
– Да за что ж, позволь узнать?
– Я… я грубил тебе. Я не хотел, честное слово. У меня как-то само собой это все…
– Да брось, у всех так бывает. Садись, погрейся. Ты б на Добробоя посмотрел полгода назад!
– Ага! – подхватил Добробой, широко улыбаясь. – Я еще и драться лез. Мне Млад Мстиславич шалаш отстраивал четыре раза – я его по листику расшвыривал. Ширяй – тот помалкивал больше, сбега́л потихоньку, два раза в лесу заблудился. А я все крушил, что под руку подворачивалось!
– Вот уж точно, – улыбнулся Млад, – Добробой перед пересотворением был сущим бесом. Так что не переживай, Миша. И не сдерживайся, не надо. Пройдет это, а несколько дней мы потерпим.
– Я поговорить с тобой хочу. Ты не подумай, я не потому, что не верю. Я чтоб разобраться…
– Конечно, – Млад поднялся. – Сначала погреемся, а потом прогуляться пойдем.
– Ладно, Мстиславич, – Пифагорыч встал следом за ним, – пойду я, не буду мешать. Заглядывай ко мне.
Млад почувствовал неловкость: вроде как неуважительно отнесся к старику. Но Пифагорыч его успокоил и добавил:
– Проводи меня до крыльца.
Они вышли на мороз – у двери Млад накинул полушубок на плечи и теперь переминался с ноги на ногу.
– Что ректор-то тебе сказал, а? Ты пришел – на тебе лица не было. – Пифагорыч прикрыл дверь.
– Сказал – завтра вече будет. Чтобы я грамоту там подписал и перед людьми повинился.
– Да ты что? – лицо старика потемнело. – Это что ж? Волхву указывать, что ему людям говорить?
– Говорят, бояре угрожают, без серебра университет оставить хотят…
– До чего докатились, а? – Пифагорыч задохнулся от возмущения. – Да как язык-то у них повернулся?
– Да вот, повернулся… – Млад сжал губы.
– Не вздумай их слушать! Не вздумай!
– Я и не слушаю… – Млад опустил голову.
– Не ждал я… Не ждал такого на старости лет, – у Пифагорыча дрогнул подбородок. – Куда идем, а? Был бы жив князь Борис, разве позволили бы они себе такое, а? Окрутят они княжича, окрутят, задурят голову… Вот что. Я сейчас к ректору пойду. Я ему все скажу. Я…
– Пифагорыч, не надо. Не ходи, без толку это, – Млад взял старика под локоть.
– Знаю, знаю, что без толку! – выкрикнул старик. – Знаю! Но что-то же надо делать? Так и будем смотреть, как Русь на части разрывают? А?
– Пифагорыч, да не переживай так… – Млад пожалел, что рассказал ему о разговоре с ректором.
– Как не переживать? Как не переживать, если вообще Правды не осталось? Куплена вся Правда! Серебром оплачена! Нет уж, не отговаривай меня! Я в одиннадцать лет в университет пришел, всю жизнь здесь живу, старше меня здесь никого нет! Да ректор прыщавым студентом был, когда я таких, как он, учил уму-разуму! Или старость у нас тоже уважать перестали?
– Не надо… – попытался вставить Млад.
– Надо! Надо! Знаю, что не добьюсь ничего, так устыжу хотя бы.
– Я думаю, им и самим несладко пришлось…
– Им несладко? Шубы собольи надели, терема себе не хуже боярских поставили – где уж о Правде-то думать? Боятся без службы остаться! Ой, боятся! И не держи меня! – Пифагорыч выдернул локоть из руки Млада. – Иди в дом! Выскочил! Иди в дом, сказал!
Млад сжал губы: зачем он рассказал? Можно было и догадаться, что старик расстроится…
С Мишей Млад проговорил до позднего вечера. Прогулка получилась трудной, в университете было слишком неспокойно: ватаги хмельных студентов шныряли между теремов, то и дело вспыхивали драки, ретивые краснобаи собирали вокруг себя орущие толпы, которые несколько раз сошлись стенка на стенку. Млад хотел пройтись только по наставничьей слободе, но там собирались выпускники – высшее отделение. Они вели себя потише, но Мишу раздражало присутствие множества людей, ему хотелось спокойствия и уединения.
Млад давно рассказал ему о пересотворении – по-честному, как было на самом деле, – и теперь они говорили просто так: о жизни, о шаманах белых и темных, о богах, об университете, о татарах и волхвах. Миша был внимательным слушателем, редко задавал вопросы, но Младу казалось, что от разговоров с ним мальчик делается уверенней, спокойней. От свежего воздуха и долгих прогулок он немного поправился, на щеках его появился легкий румянец, – умирающего он больше не напоминал, и с каждым днем Млад все сильней верил в удачу.
Они брели вдоль леса, обходя университет по кругу.
– Млад Мстиславич, а если я умру во время испытания, куда я попаду? В ад или в рай? – неожиданно спросил Миша, заглядывая ему в глаза.
– Во-первых, забудь про ад, наконец. А во-вторых, ты не умрешь во время испытания.
– А вдруг?
– Только если сам захочешь умереть. Я бы на твоем месте об этом не думал.
– Ну а все же, куда?
– Куда захочешь, – Млад пожал плечами.
– Как это?
– Я не думаю, что ты в своей жизни совершил какое-нибудь злодеяние. Если ты жил честно, твои предки с радостью примут тебя к себе.
– Но я… много грешил… – Миша вздохнул.
– Каким образом? А главное – когда ты успел? – Млад улыбнулся.
– Ну, человек сам иногда не замечает, как грешит. В помыслах, например. Отец Константин говорил, что человек грешен только потому, что он человек.
– Отец Константин ошибался, – Млад постарался не изображать на лице презрения. – Ты хоть один свой грех назвать можешь?
– Это еще до болезни было. Я думал раньше, что дьявол вселился в меня именно из-за этого. Только ты не рассказывай ребятам, они будут смеяться. Мне нравилась одна девочка с нашей улицы. И я плохо думал про нее…
– В каком смысле «плохо»? – Млад поднял брови.
– Ну, о таком нехорошо говорить. Я думал, что было бы здорово на ней жениться. И… Ну, в общем, я представлял, как мы поженились… Я смотрел на нее в окно и представлял. Это было очень… очень приятно…
– Ну и что? В чем грех-то? Все смотрят на девочек в пятнадцать лет. Я тоже смотрел, можешь поверить. И иногда собирался жениться. Раз десять, наверное, собирался.
– Отец Константин сказал, что это очень грешно. Что дьявол как раз и входит в человека, когда он о таком думает…
– Ерунду он говорил. Я, конечно, про дьявола ничего не знаю, но не думаю, что ты чем-то оскорбил богов или предков. Наоборот. Это я, подлец, так и не женился и сына не родил. Это оскорбление и предкам, и богам.
– А почему ты не женился?
– Не пришлось… – Млад не любил подобных вопросов. – Не обо мне речь. Так что еще раз говорю: про ад забудь. Предки примут тебя к себе, а что будет дальше – я не знаю. Мне тоже не везде есть ход. Темные шаманы знают лучше.
– Хорошо бы… – вздохнул Миша.
– Ничего хорошего, – спохватился Млад. – Говорю же, не смей об этом думать! Развесил уши… Тебе не о смерти надо думать, а о девочках. О матери. Неужели ты не чувствуешь, как хорошо жить?
– Не знаю… Отец Константин говорил, что настоящая жизнь начнется после смерти. Хорошая жизнь. А здесь так – мгновение. И послана она нам исключительно для испытаний. И что к Богу можно приблизиться только тогда, когда отринешь свою плоть и захочешь от нее избавиться.
– Знаешь, я с каждым днем все сильней хочу задушить твоего отца Константина… И почему христиане не убивают себя сразу после крещения? Раз хорошая жизнь наступает только после смерти?
– Ты что! Это самый большой грех – самоубийство. Нельзя убивать ни себя, ни других, потому что на это воля Божья! Бог жизнь дает – только он и может ее забрать!
– Бог? Очень любопытно. А я-то, дурак, всю жизнь думал, что жизнь мне дали мать с отцом! Нет, твой отец Константин презабавные вещи говорит! Ну как бог может дать жизнь, если ты был зачат в материнском чреве и выношен в нем? Бог-то тут при чем?
– Ну… Я не знаю…
– Бог свечку держал, не иначе… – улыбнулся Млад и прикусил язык.
– Чего?
– Нет, ничего, – Млад насторожился, поднял голову и всмотрелся в темноту: ему показалось, что к его дому кто-то идет. – Пойдем-ка… К нам гости…
Миша кивнул и тоже насторожился. Они зашагали быстро, почти бегом, – Млад и сам не знал, почему так торопится: щемящее предчувствие сдавило грудь. Тявкнул и тут же успокоился Хийси – значит, не показалось, кто-то действительно шел. Дом Млада стоял чуть поодаль от остальных, у самого леса, и пространство вокруг хорошо просматривалось.
Они поднялись на крыльцо, Млад распахнул дверь, но не увидел никого, кроме Ширяя, все так же сидевшего за столом.
– К нам что, никто не приходил?
Ширяй покачал головой, не отрывая глаз от книги.
– А мне показалось… – Млад удивленно пожал плечами.
– Хийси гавкнул, вот ты и решил, что кто-то идет, – невозмутимо ответил Ширяй.
– Я видел. Темно, конечно, было… Но на снегу… Да и Хийси за просто так из будки не полезет.
– Шумно. Неспокойно. Собаки чувствуют. Оставь, Млад Мстиславич, никто не приходил. Да и кому мы нужны-то?
– Да? – Млад снова пожал плечами и снял треух. – Значит, показалось…
Он хотел раздеться, но тут из-за двери донесся унылый, леденящий душу вой: до этого Млад никогда не слышал, как воет Хийси, он думал, пес слишком ленив, чтобы задирать морду к небу и выталкивать из глотки такие жуткие звуки. Смертная тоска слышалась в собачьем вое, неизбывное горе…
– Ничего себе… – пробормотал Добробой, выходя из спальни. – Чего это он так, а?
Млад вернул треух обратно на голову.
– Пойду-ка я посмотрю…
– Погоди, Млад Мстиславич! – Добробой кинулся к выходу. – Не ходи один. Жуть-то какая!
Миша притих и топтался у двери, зябко поводя плечами; морозный румянец исчез с его щек, и нехорошо подрагивали губы.
– Правда что… – Ширяй с сожалением отодвинул книгу. – Пошли все вместе.
– Да вы чего, ребята? – усмехнулся Млад, глядя, как быстро они натягивают валенки и полушубки.
Миша вдруг схватил его за руку и быстро заговорил:
– Это он по мне воет. Слышишь, Млад Мстиславич? Он по мне воет! Он смерть издали чует. Так и вижу себя мертвым… Лежу в спальне, глаза закрытые – и пес за окном воет… И ты рядом на полу на коленях стоишь…
– Типун тебе на язык, – сплюнул Млад, – глупости не говори.
– Да не пугайся! Перед испытанием все о смерти думают! – Добробой, открывая дверь, хлопнул Мишу по плечу так, что тот пошатнулся и едва не упал.
Хийси сидел перед будкой черным силуэтом на белом снегу, запрокинув морду к небу: шея неестественно вытянулась вверх. Вой исходил из его груди, сотрясая собачье тело, словно тот всхлипывал.
– Хийси! Ты чего? – окликнул Млад.
Пес не отозвался, продолжая выть.
– Чует что-то… – прошептал Добробой.
– Давайте-ка вокруг дома обойдем… – Млад спустился с крыльца. – Показалось же мне, что кто-то к нам идет.
Добробой не отставал от него ни на шаг, словно стражник. Ширяй взял Мишу за руку, сходя вниз.
Но возле дома никого не оказалось, да и снегу навалило под самые окна – незамеченным никто к стене подойти не мог. Кусты сирени и жимолости вокруг не могли укрыть человека – слишком прозрачны были и белы от инея, – да и за высокой черемухой не спрячешься: тонкая. Млад направился в сторону расчищенной дорожки к университету, вглядываясь в темноту, – любая тень на снегу бросалась в глаза. Столбики коновязи тонули в высоком сугробе; три елочки, посаженные несколько лет назад, грелись под снегом, точно под белой шубой – одной на троих; черный колодец домиком торчал из снега; скамеечка около него притулилась под сугробом, и что-то было не так в ее тени… Млад направился к колодцу: человек лежал, прислонившись к срубу плечами, и прижимал руку к груди, словно хотел расстегнуть тулуп, но не успел.
Сначала Млад решил, что человек мертв: слишком неестественным выглядел он, лежа в снегу на лютом морозе, слишком неподвижным.
– Нашел, – пробормотал Млад, подходя поближе, и тут же, как по приказанью, смолк Хийси.
– Да это же Пифагорыч! – ахнул Добробой.
– Он умер? – спросил Миша, который продолжал держаться за руку Ширяя.
Млад склонился над стариком и уловил еле слышное тепло его дыхания.
– Нет. Добробой, поднимем его. Только осторожно… Ширяй, вы с Мишей за ноги его берите.
– Не надо, я сам его донесу, – Добробой отпихнул Млада в сторону.
– Не вздумай. Сказал же – осторожно.
Они отнесли Пифагорыча в дом и уложили на лавку, Ширяй побежал к врачам. Однако в тепле старик быстро пришел в себя и тут же попытался сесть.
– Лежи, Пифагорыч! – Млад потихоньку похлопал его по плечу. – Лежи спокойно. Не душно тебе?
– Тошно мне, вот что я тебе скажу! Тошно мне и жить не хочется! Видеть этого не хочется! – Пифагорыч отодвинул руку Млада и сел на лавке: лицо его исказила гримаса боли, и задергался угол губы.
– Ты не горячись…
– Не горячиться? Я уже не горячусь… – Пифагорыч опустил голову на грудь. – Три четверти века! Семьдесят пять лет в университете! Не ждал я… Не ждал такого…
По темной морщинистой щеке покатилась слеза.
– Может, меду погреть? – спросил Добробой, мявшийся за спиной Млада.
– Не надо меду, – покачал головой Млад, – мятной настойки давай. Есть у нас мятная настойка? И корешков валерьяновых.
Добробой кивнул и полез на полку. Рука старика непроизвольно потянулась к груди, он вцепился пальцами в большую пуговицу так, что их кончики побелели. Неожиданно рядом с ним присел Миша.
– Дедушка, давай я помогу, – он принялся расстегивать тугие пуговицы тулупа. – Ты не плачь, дедушка…
– Да не плачу я, – прошептал старик, погладив Мишу по голове, – что мне плакать?
– Лег бы ты, Пифагорыч, – снова посоветовал Млад.
– Что мне лежать? Належусь еще, – старик приподнял глаза. – Что-то нехорошо мне стало. Шел к тебе, да прихватило меня по дороге. Дай, думаю, посижу на скамеечке…
– Хийси благодари. Если б не он, так и пролежал бы в снегу до утра.
Миша помог старику снять тулуп и сидел рядом, заглядывая тому в глаза.
– И пролежал бы… – Пифагорыч сжал зубы. – Лучше бы пролежал! До такого позора дожить!
– Говорил я тебе – не ходи к ректору, – Млад покачал головой.
– Да леший бы с ним, с ректором! Сказал я им все, что думал. Об них да о боярах. Выслушали – а куда бы делись? Я им в отцы гожусь! Посетовали мне на трудную жизнь, совета спросили. Не послушают они, конечно, моих советов… Хорошо, не перебили.
Добробой мятной настойки не нашел и начал раздувать огонь в плите – заварить сухую мяту. Млад дал Пифагорычу валерьяновый корешок.
– Да что ж с тобой тогда? Чего расстроился-то?
– Студентов по дороге встретил. Уж не знаю, с какого отделения, – не разглядел. Не наши. Пьяные, шальные. Стекла били в сриптории!
– Ну, Пифагорыч, ты от них слишком много хочешь, – улыбнулся Млад. – Безобразие, конечно, но это не самое страшное. Завтра бы дознались и вставили на место. Сам-то в молодости не озоровал?
– Озоровал. Но ты б мимо прошел? Вот и я не прошел. А они ко мне повернулись: ну сущие звери! Хохочут, скалятся, свистят! Иди, говорят, дед, подобру-поздорову, тебя не спросили! Я им – да как не стыдно вам? А они… они… – голос Пифигорыча дрогнул, и он закрыл лицо руками, – снежками, палками, камнями… Думал – убьют. Нет, насмеялись только…
Млад сжал зубы:
– Разглядел хоть кого?
Старик покачал головой.
– Дознаюсь, – кивнул ему Млад, – не переживай – дознаюсь.
– Не в этом дело… – всхлипнул старик. – Три четверти века… Никогда такого… Не озорство это.
Миша смотрел на деда широко открытыми глазами, и на них потихоньку наворачивались крупные слезы.
– Да уж понятно, что не озорство, – хмыкнул Млад.
– Словно не люди они. Словно зельем их опоили… Не могут наши студенты так… Как с цепи сорвались!
Миша всхлипнул вслед за стариком.
– Разберемся. Вот увидишь, завтра явятся прощения просить, – Млад похлопал Пифагорыча по плечу.
– Ненавижу! – вскрикнул вдруг Миша, вскочил и затопал ногами. – Ненавижу таких! Что толку прощения просить? А если бы дедушка замерз? У кого бы они прощения просили?
Млад не ожидал от него такой вспышки, хотя перед пересотворением все возможно. Тут дверь распахнулась, и в дом ввалились два молодых наставника с врачебного отделения.
– Ненавижу! – повторил Миша, с треском рванул воротник рубахи костлявой рукой, раз два со всей силы ударил кулаками по столу и упал обратно на лавку, тяжело дыша и обливаясь потом.
– Ого, – присвистнул один из врачей, – несладко тебе тут, Млад Мстиславич…
– Да что ты, деточка… – испугался Пифагорыч, – да что ж ты так…
– Ничего! Ничего! Не трогайте меня! Никто меня не трогайте! – зарычал парень и рванулся в спальню.
– Да что ж он… – Пифагорыч беспомощно посмотрел ему вслед и схватился за сердце, – что ж с ним такое?
Из спальни донесся долгий, пронзительный стон.
– Ничего. Я сейчас. Извини, Пифагорыч, – Млад поспешил за Мишей, надеясь уговорить его выйти из дома.
Но стоило ему приоткрыть дверь, тот вскрикнул:
– Не подходи ко мне! Слышишь? Не смей ко мне подходить! Оставь меня в покое!
– Я не подхожу, – Млад выставил руки вперед, – не подхожу. Но лучше тебе на дворе, не здесь… Принести шубу?
– Нет! Уйди! Уходи же!
Млад кивнул и прикрыл дверь. И тут же услышал грохот падающего тела и сдавленный, хриплый крик. Он выругался и кинулся обратно в спальню.
Глава 6. Дана
Врачи увели Пифагорыча домой, в сторожку, Добробой пошел к нему ночевать, Ширяй так и не появился: наверное, отправился к своим друзьям-студентам. Миша спал и должен был проспать не меньше трех-четырех часов. Млад не хотел оставлять его одного, но время шло к полуночи, а он так и не зашел к Дане… Сегодня ему невыносимо хотелось ее увидеть.
Дана была удивительной женщиной. С самого начала. Когда-то она стала единственной девушкой-студенткой университета. А потом – единственной наставницей, читала лекции по праву.
Она очень хорошо одевалась, как боярыня. Многие считали худобу ее недостатком, но для Млада она была хрупкой. Ее руки напоминали ветви березы – такие же длинные и гибкие. Она вся напоминала березу – тонкую и высокую. А лицо… Млад всегда находил ее лицо очень красивым, хотя кто-то мог бы с ним и не согласиться. Особенно ее глаза – огромные, с длиннющими черными ресницами, такими пушистыми, что казались ненастоящими. И короткий нос, и маленькие, как будто припухшие, губы…
Он трижды звал ее замуж, но она неизменно отвечала:
– Чудушко мое… – и кашляла, – за кого замуж? За тебя замуж? Два наставника – это слишком для одного дома. И потом, куда ты денешь своих учеников? Нет, Младик, замуж я не хочу. Тем более – за тебя. Ты совсем не приспособлен к жизни. И я тоже.
Они больше десяти лет были вместе: Дана и этим отличалась от других женщин, она не боялась, что станут о ней говорить, и Млад ночевал у нее, когда ему вздумается, и приходил открыто, не прячась и не озираясь по сторонам.
Прислушиваясь к сопению Миши в спальне, Млад надел валенки на босу ногу, накинул на плечи полушубок и потихоньку выскользнул за дверь.
Дом Даны стоял на другом конце наставничьей слободы, в полуверсте от дома Млада, и он пожалел, что не надел треух: казалось, уши покрылись инеем. Университет потихоньку успокаивался: гасли огни в коллежских теремах, вместо гомона множества голосов раздавались отдельные пьяные выкрики, драки прекратились. Млад прошел мимо терема выпускников: наверху горел свет – для студентов-татар, похоже, опасность миновала.
Конечно, Дана уже спала. Млад долго думал, прежде чем постучать в темное окно: а стоит ли ее будить? Но она услышала его стук сразу, будто ждала его, зажгла свечу и отодвинула засов.
– Я сразу догадалась, кого леший принес ко мне в столь неподходящее время… – проворчала она, пропуская Млада в дом. Он очень любил смотреть на нее, когда она в одной рубашке: помятая, сонная, теплая. Особенно если горела всего одна свеча.
– Я тут привез тебе кое-что… Я в Новгороде сегодня был и вот привез… У меня просто времени не было раньше…
– Не гунди. Опять шапку не надел? Сначала погреем уши, а потом поговорим… – Дана поставила свечу на стол, подняла тонкие руки и прижала их к его ушам. – Холодные.
Она приподнялась на цыпочки и дохнула ему в ухо – горячо и приятно.
– Я ненадолго совсем, пока Миша спит…
– Ага, – она дохнула ему в другое ухо, – теплей?
– Теплей, – он улыбнулся. – Я платок тебе привез. Шелковый. Смотри, какой красивый.
Млад вытащил из кармана коробок из тонкой соломки и открыл крышку.
– Ты умница, – Дана подхватила коробочку и невесомую ткань. – Не сомневаюсь, ты пришел поговорить.
– Ну… я не только… Я… просто…
– Ага, – она засмеялась и открыла дверь в сени, – давай. Оправдывайся.
– Хочешь, я сам меда согрею? – спросил он, когда она вернулась с ковшом меда, нацеженным из бочонка. – Не пачкай руки…
– Нет, не хочу, – она отодвинула печную заслонку и подула на угли. – Ты не можешь сделать и такой простой вещи без приключений.
Млад опустил голову: в прошлый раз он действительно забыл открыть вьюшку. А Дана рук вовсе не пачкала, перекладывая угли из плиты в печь тонкими щипцами.
– Чудушко… – она обняла его за пояс и потерлась щекой о его бок, – ты создан не для этого. Неужели ты в самом деле не подписал грамоту, как болтает весь университет?
– Действительно, – Млад пожал плечами, не понимая, осуждает она его или нет.
– Вот за это я тебя и люблю, – Дана поднялась и открыла печную вьюшку.