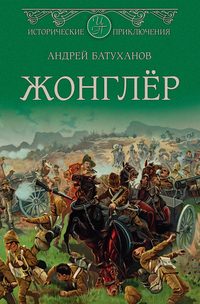
Жонглёр
– Зачем?
– Ну, ты же просил фокусы. Вот тебе и пожалуйста!
– Так я думал шарики, карты и прочие.
– Это вчерашний день. Сам же подсунул книжку Гудини, а теперь на попятную?
– Вообще-то я за любое веселье, кроме поножовщины. Я всё сделаю, но ты уверен?
– Конечно!
Саша без особого энтузиазма помог облачиться и завязал рубашку на спине. Потом долго гремел звеньями цепи и чертыхался, застёгивая замок.
– Только смотри, чтобы замок был обязательно на спине, – потребовал Лёня у удивлённого сокурсника.
– Еле стянул звенья. Замок аккурат между лопаток!
– Теперь положи меня на пол.
– Ну это уж слишком!
– Положи!
Это было сказано так, что Краснов беззвучно выполнил эту просьбу. Сначала Фирсанов-младший пару раз прокатился туда-суда по полу, сел и резким движением встал на ноги. Потом Саше показалось, что по телу его друга пошла мелкая волна, замок необъяснимым способом открылся сам по себе и цепь, которую он с таким трудом застегнул на спине, упала к ногам Леонида. Теперь волной ходили руки, где-то через минуту узел, связывающий рукава смирительной рубашки, разошёлся, а уже через пятнадцать секунд Леонид держал и саму рубашку. На его лице была лучезарная улыбка, по лбу катился пот.
– Ты чем-то недоволен? – смахнув со лба бисеринки влаги, спросил Лёня изумлённого приятеля.
– Но с шариками и картами как-то занимательней. Весело и не так страшно.
– Так ведь это ловкость рук. Сам подарил.
– Сколько лет ты мне это будешь припоминать?
– Но раз древние фокусы тебе понравились больше, то – пожалуйста!
Где-то около получаса шарики взмывали к потолку комнаты, исчезали и появлялись в самых необычных местах, скользили по тыльной стороне ладони. Карты тоже творили чудеса, то меняя масти и достоинство, то появляясь в самых неожиданных местах костюма, молчаливо и бесстыдно вылезали на всеобщее обозрение. Старший Фирсанов лишь слегка посмеивался в усы.
Потом Леонид заставил Александра, несмотря на его смущение, прочесть несколько собственных стихотворений. Леониду врезались строчки:
– Леса смрадный пожарПринимал за цветы.Я надеждой пленёнДолететь до мечты.Выбиваясь из сил,Конь, зрачками искря,Карусель выводилДо победного дня![17]К глубочайшему удовлетворению Саши, отец и сын Фирсановы высоко оценили его поэтический дар. И заряжаясь от слушателей, Краснов, с горящими глазами и раскрасневшимся лицом, снова эффектно читал свои стихи. Песни петь он не рискнул. Не помогли никакие уговоры и даже появившаяся откуда-то гитара. Одним словом, прощальный ужин удался.
Стоя в дверях, Краснов долго жал руку Александру Леонидовичу и рассыпался в восторгах его голосу и пению. Старший Фирсанов не часто выслушивал дифирамбы по этому поводу, а посему с благожелательной улыбкой кивал в такт словам Александра. Для Саши Краснова Леонид, видимо, оказался в родственном кругу, поэтому последовал принятый в его семье ритуал крепких мужских объятий.
– Откуда завтра пароход? – спросил Саша, когда весь «сок» из Леонида уже был выжат.
– Ниоткуда.
– Ты что, передумал ехать?! – ужаснулся Краснов.
– Нисколько. Только отсюда я не поплыву.
– Это ещё почему?
– Если прямо из Портсмута до Кейптауна, то Сила Яковлевич опасается, что с англичан станется, как он говорит, «чинить каверзы». Так во избежание оных я завтра с Витебского отправлюсь в Одессу. Далее через Стамбул и Александрию в Лоренцу-Маркиш, а далее поездом в Трансвааль. – Кто бы мог подумать, что оброненное капитаном название порта станет теперь для Фирсанова предпоследней, но важной точкой назначения. – А дальше железной дорогой до Оранжевой республики, а там на лошадях до места назначения.
После ухода Краснова отец и сын долго сидели в кабинете, допивали коньяк и говорили о всяких разностях, но серьёзных тем не поднимали. Это был вечер небывалого единения отца и сына. Они усилием воли заставляли себя не заглядывать в будущее. Ни далёкое, ни самое ближайшее. Не сговариваясь, они приняли постулат – нет ничего, кроме сейчас. Если бы они могли заглянуть в будущее, то… Но такой возможности у них не было. И слава богу!
На вокзале, стоя возле вагона, оба Фирсанова себе и окружающим демонстрировали, что ничего особенного не происходит. Правильный сын уезжает погостить на некоторое время к бабушке в Одессу – и ничего более. А уважаемый отец провожает. Каждый выцедил из памяти полный арсенал известных ему шуток, связанных с дорогой, проводниками и забывчивыми путешественниками. На самом деле Леонид первый раз в жизни предпринимал столь длительное путешествие. За границей они бывали, но впервые младший ехал один. И не на курорт. Отца бил озноб, то ли нервный, то ли от гулявшего по перрону пронизывающего ветра. Он старательно кутался в пальто. А ветер вдруг расшалился не на шутку, он не только обжигал кожу, но и выдавливал нежданные, но соответствующие моменту слёзы. Из-за чего вся перспектива перрона и вокзала в глазах Фирсанова дрожала и гнулась.
Норд-ост норовил залезть в любую щель, дырочку и складку. Отец одной рукой удерживал котелок, а второй пытался свести борта демисезонного пальто. За то, что не находилось щелей и дырочек для залезания «под кожу» или не удавалось что-нибудь с кого-нибудь сорвать, ветер мстил всеобщей красноносостью, носоотвислостью и носоопухлостью. И не удовлетворившись неприятностями, доставляемыми людям, он поднимался ввысь, гнал по небу и яростно трепал, как злобный пёс, мелкие облака.
Глядя на Фирсанова-старшего, сердце Фирсанова-младшего дрогнуло, и он решил отправлять совсем окоченевшего родителя домой и устраиваться в вагоне. Будто дожидаясь этой мысли, на перроне появился бегущий Краснов. Он увидел своих друзей, вскинул руку.
– Я успел! Не опоздал! – радовался Саша. А ветер, обнаружив новую жертву, накинулся на него с удвоенной силой.
Пожав руку старшему, Краснов протянул младшему шикарный ежедневник в кожаной переплёте с небольшими ремнями и ажурными застёжками.
– Это тебе! Из-за него и задержался. Для заметок и мыслей. Он даже с золотым обрезом! – немного смутился своей романтичности и сентиментальности Краснов.
– Вчерашнее освобождение навеяло? – спросил Леонид, подёргав за фальшремни.
– Ага! – кивнул, шмыгнув красным носом, Александр.
– Так ты сам запустил исполнение нашего общего плана! Я – в Африку, так что ты теперь обязан в короткий срок женится.
– А это как получится. Сам знаешь: поспешишь – людей насмешишь. А тут никакого веселья. Все должно быть надолго, если не навечно, – резюмировал Краснов.
– Но всё равно, помни – план начал действовать. Два пункта уже исполнены.
– Долгие проводы – лишние слёзы, – сказал Александр Леонидович. По его лицу текли слезы. От ветра ли или от предстоящей разлуки? Но, по крайней мере, их можно было не скрывать, опасаясь уронить свою репутацию. Он обнял сына. – Помни мои наставления. Для победы иногда нужно сделать шаг в сторону, чтобы потом начать поступательное движение вперёд. Бывай и береги себя.
– Саша, ты иногда навещай отца…
– Мог бы и не говорить, ради того, чтобы услышать его голос, я готов на всё!
– Полно, Александр Савельевич, я же не сирена гомеровская, – несколько подобиделся Фирсанов-старший.
– Что вы! Что вы! Вы много лучше!
– Ну, вот и договорились.
– Ой! Простите, ради бога, не хотел вас обидеть, Александр Леонидович! – принялся извиняться за невольно возникшую двусмысленность Краснов.
– Вот, я вас обоих и пристроил! – слушая эту неожиданную перепалку, обрадовался Лёня.
Обрядовые обнимания прошли без жертв с обеих сторон. И два самых близких ему человека, поддерживая друг друга, пошли прочь. Один раз они всё же не выдержали и синхронно повернулись, помахали и затерялись в толпе. Леонид, сколько мог, провожал из взглядом. Когда он ещё их увидит и увидит ли вообще? От подобных драматичных мыслей не удавалось избавится все последние дни.
Едва толпа провожающих поглотила их спины, у Лени так защемило сердце, что он был готов послать эту Южную Африку куда подальше и черт с ним, со стыдом и потерянной репутацией! Он не хотел никуда ехать! Что его ждёт там, где смерть вплотную подходит к людским душам? Где играющий блик на стальной косе безносой старухи так же легко увидеть, как и чихнуть от поднятой пыли. А тут всё налажено: дом, учёба, уже видны горизонты будущей карьеры. Неосторожно брошенное женское слово, как это часто бывает, поменяло ход истории. На любом уровне. Хотя валить на женщину – последние дело. Голова ведь не только для кепи и волос нужна.
Потребовалось большое усилие воли, чтобы остаться возле вагона, не заскочить в купе, схватить баул и с ошалевшими глазами броситься вслед за отцом и другом. Чтобы не провоцировать себя, Лёня решил уйти в вагон. Но едва он поставил ногу на первую ступеньку, как услышал:
– Леонид! Лёня! Подождите! – Этот женский крик разрезал воздух, как молния. Он резко повернулся. К нему бежала Елизавета.
– Слава богу, успела! Насилу вас нашла.
Леонид молча смотрел на неё. Он понимал, что её нужно приободрить, но после последних двух встреч слова застряли у него в горле. Он не был ни в чём уверен: ни в своих чувствах, ни в их отношениях, ни в правоте своего поступка. Наконец он кивнул головой и выдавил из себя:
– Здравствуйте, Елизавета. И, – он слегка усмехнулся, – сразу приходится прощаться! Вот такие временные парадоксы получаются. Иногда.
– Неправильно говорите, Леонид. Не прощайте, а до свидания! Я буду ждать… ваших писем. Очень буду. Вы же будете писать их интересными?… – не приказала, а мягко попросила Меньшикова.
– Это уж как получится. Я же не литератор какой-то.
– А я в вас верю! А не ехать вы не можете?
– Теперь уже нет. У меня подписан годовой контракт с «Невским экспрессом».
– Годовой? – потухла Лиза.
– Да.
– А раньше вернуться нельзя будет? – Последний лучик надежды безвозвратно угасал.
– Вряд ли. Только если…
Лиза, поняв, что он сейчас произнесёт, закрыла ему пальцами рот. Как тогда в пролётке. И перечёркивая все предыдущие мысли, размышления и выводы Фирсанова, Лиза приподнялась на носках, вскинула руки, обняв его за шею, на виду у всех, поцеловала. Вспышка молнии или яркого солнца. У Лёни перед глазами ещё плавали фиолетовые круги, а она медленно опустилась. Руки безвольно повисли вдоль тела, не зная, что им делать: то ли продолжать обнимать, то ли начать рвать волосы. Меньшикова и Фирсанов так и застыли друг перед другом. Не найдя ни слов, ни жестов, подходящих для такого непривычного для них момента.
– Идите, а то простынете. Вон какой ветер нынче, – наконец жалобно попросил Леонид, не отрывая взгляда от Лизиного лица. Рука, которой он сжимал вагонный поручень, побелела. Она покачала головой и подтолкнула Леонида под локоть. Кажется, отрезая от себя и от него целую эпоху. Он прекрасно понимал, что, останься в эту минуту с ней, он мгновенно её потеряет, но уже навсегда. Сейчас он мимолётный герой, а через мгновение может стать для неё вечным трусом.
Едва оказавшись в купе, он кинулся к окну. Елизавета стояла у дальней кромки перрона и искала его взглядом. В этот момент поезд тронулся. Новоиспечённый корреспондент «Невского экспресса» неуверенно, до конца ещё не веря в произошедшее, помахал ей. Она сделала то же самое и пошла за поездом, но быстро отстала.
Поезд потихоньку, в полный голос запел свою известную песню на стыках. За окнами проносились знакомые и незнакомые пейзажи, случайные дома, товарные вагоны на запасных путях. В жизни точно так же: ещё какое-то время тащатся за спиной остатки и обломки старого, а затем начинают набегать элементы новых пейзажей. Они уже лучше тем, что, по крайней мере, новые и неизвестные. Серое небо от горизонта до горизонта расплющило Санкт-Петербург. Как-то неохотно и не радушно прощался город со своим сыном. И вдруг серое однообразие в одно мгновение перечеркнул солнечный блик, летящий от Петропавловской крепости.
Октябрь 1899 год. Одесса
«De tout mon cœ ur, chè re Élisabeth![18] Простите мне упоминание своего сердца вблизи от вашего имени. Прошло всего три дня, как милый моему сердцу ангел на шпиле Петропавловской крепости послал мне прощальный солнечный блик из Петербуржской небесной бледной дали. Естественно, я воспринял это как добрый знак и благословение на весь заморский путь. Но уже в душе образовалась настоящая ностальгия по всему тому, что у меня было, теперь уже прошлой жизни. Душевная буря последних дней постепенно, но сошла на нет.
Недаром китайцы говорят: путь в десять тысяч ли[19] начинается с первого шага. И он мною сделан, дорогая Лизавета! Оставив за спиной вестибюль Николаевского вокзала, на площади трёх вокзалов в Белокаменной, я уже пребывал в спокойном и деловом настроении. Отчего оглядывал окрестности весело, бодро и, я бы даже сказал, молодцевато.
До Брянского вокзала, как ни зазывали меня лихачи, я всё же решил пройтись пешком. Решил и время убить, и город увидеть. Москва с её кольцами и радиальными проспектами напомнила мне огромную замысловатую паутину, в которой жизнь, дёрнувшись несколько раз как муха, потихоньку затихла, покрылась пылью и плесенью, превращаясь в существование. В этом городе, как мне показалось, оно ограничено прочными, не сдвигаемыми рамками. Цитадель купеческой мысли. Шаг вправо или влево воспринимается, наверное, как настоящее преступление. Но ведь кто-то же переступает эти рамки, раздвигая или игнорируя их? Находятся же смельчаки! Но кто они? И ещё, мне показалось, что внутри самого города, где-то глубоко под землёй, свёрнута огромная круглая часовая пружина, таящая в себе гигантскую силу. А может, это всё от того, что не видно родной прямолинейной перспективы? Кажется, что за первым же поворотом улицы, бульвара или переулка должен обязательно стоять какой-нибудь бородатый мужик в зипуне с кистенём. Для разнообразия он может напевать что-нибудь незатейливое и весёлое. Ну, например, „Во саду ли, в огороде“, и так небрежно поигрывать своим промысловым инструментом. Высокие дома тут редкость. Одно-, двух-, максимум трёхэтажные. Блёклой, преимущественно жёлто-белой, лентой тянутся вдоль улиц. А люди куда-то сосредоточенно стремятся, как муравьи в муравейник или пчелы в улей. „Но сладок ли тот мёд?“ – подумал я.
Мой поезд в Одессу уходил только вечером следующего дня, и остаток времени я провёл в небольшой жёлто-пыльной гостинице. Решил быть рачительным и сэкономить на будущее. Шкап, стол, стул и кровать с панцирной сеткой, изголовьем к окну. Рукомойник. Из радостей – какой-то пруд с лебедями за окном, в трёх шагах от входа.
Узнал, что до Красной площади пару шагов, и непременно решил их сделать. Как же я был удивлён тому, что русское, глубоко спрятанное за образованием и манерами, полыхнуло во мне. Трамвай и палатки, конечно, смутили, но собор Василия Блаженного потряс. Такой игрушечный, радость от победы так и брызжет от него. Теперь понял, что такие памятники в честь ратных подвигов больше рассказывают о настроении народа, чем чугунная статуя. Хотя могу и ошибаться. Понравилось также, что сквозь игрушечность, даже если не сказать дурашливость, Кремля проступили черты грозной рыцарский крепости. За шутками и прибаутками явно чувствовались сила и мощь. Это сквозь весёлую мелодию в некоторых песнях проступают грустные слова. Так обычно сильный дядька играется с детьми.
Остаток вечера потратил на то, что придумывал себе звучный псевдоним, под которым я буду писать. Студенческий Шарль Куртуа, ввиду изначальной легкомысленности и ироничности, был без сожаления отвергнут. Перебрав с сотню вариантов, решил остановиться на сочетании, придуманном отцом для моих детских выступлений – Лео Фирс. Мне показалось: коротко, легко запоминается и со вкусом. Как вам? А может, не скрываться? В таком деле уместна ли скрытность? Чего я боюсь? Быть освистанным читателями? А если, наоборот, придёт слава? Тогда кто такой Лео Фирс? Почему в „коротких штанишках“? И как доказать, что я и он одно и то же лицо? С одной стороны, хочу славы, а с другой – боюсь позора. Как тут не вспомнить Чингисхана: „Делаешь – не бойся, боишься – не делай“. Оставим это на потом потомкам, до первых заметок минимум ещё месяц, если не больше, пути.
Серым дождливым вечером я оказался на вокзале. Возле неприметной одноэтажной постройки стоял длинный поезд аж в семь вагонов! Я-то понятно, а остальные куда едут?! Нет чтобы сидеть дома, пить чай и смотреть в окошко, народонаселение империи куда-то хаотично и постоянно перемещается. Без определённой цели, без чёткого плана. Вот уж воистину: „Без царя в голове!“
Паровоз и последние вагоны торчали из-за здания, как шампур из туши телёнка. Маленького и худосочного. Поскольку я теперь лицо официальное, то имел при себе билет в вагон первого класса! Корреспондент солидной газеты! И стыд не жёг мне щеки, а даже наоборот, я раздувался от гордости. Была реальная угроза, что не пройду в двери купе. Втянул воздух, поджал живот и… прошёл! До самого отхода, крика кондуктора и паровозного свистка, я всё ждал и крутил головой, ожидая попутчика, который разделит со мной дорогу к морю. Но я оказался один. Одиночество моё продолжалось всю дорогу. Так что излить свою гордость было не на кого. И предался я чтению „Всадника без головы“ Майн Рида. Отчасти, это обо мне (что касаемо головы), а отчасти, связано с тем, что о событиях на берегах Оранжевой реки и Трансваале, пока, увы, никем ничего не написано (надеюсь, ликвидировать этот пробел в литературе в ближайшее время). Предвижу ваше возмущение, круглые глаза и возглас: „Задавака!“ Но поскольку я далеко и один, то могу себе такое позволить.
Проснулся и увидел в окно, как резко переменилась природа: небо стало насыщенного синего цвета, его художники именуют „синий кобальт“. Свечи пирамидальных тополей с зелено-седоватой листвой и акации, с кроной, похожей на облако дыма или утреннего тумана, растащенного по слоям ленивым ветром.
Из дороги запомнилась станция с потрясающим по звучности названием „Вапнярка“. Что-то жизнерадостно-сельскохозяйственное кроется в её названии. Представляются выплывающие из тумана над лугами тучные стада коров, дебелые доярки с коромыслами на перинных плечах, несущие вёдра молока утренней дойки. То, что французы называют пасторалью, или „vue rural“.
Одесса доставила массу удовольствия. Один из первых же прохожих возле вокзала на вопрос, как найти гостиницу „Астория“, без промедления сказал: „Выйдете за здесь, повернёте за там“. Потом я услыхал подробную историю, нет, это всё-таки была сага, о его семье и ненавистной тёще Эсфирь Соломоновне. К концу рассказа я, естественно, забыл, куда собирался и зачем вообще приехал в этот город.
Сама Одесса напомнила жгучий, только что снятый с плиты, кипящий борщ. С изнывающими в стороне, от собственной пышности, пампушками. Столько там всего намешано и по цвету, и по темпераменту. Но всё на удивление прекрасно. Все дышит, бурлит и танцует.
Восхитил Французский бульвар, памятник Пушкину, бесстыдные платаны на Дерибасовской, курорт Аркадия и Чёрное, но все же зеленовато-синее, море. С набережной даже видно, как оно изгибается на горизонте. Солнце яркое, тёплое, ласкающее. Будто специально подвешенное сюда для того, чтобы играть в бокале красного вина, который я не преминул с удовольствием употребить. Посидел, пожевал губами и взял второй. И облака белые, будто игрушечные. Разбросаны по небосводу мелкими, крепкими кучками. Такое ощущение, что на необыкновенном синем лугу зацвели перевёрнутые одуванчики. В Питере такого даже летом не бывает. А памятник Дюку де Ришелье удивил размерами. Говорят, что это он в полный рост! Так он что, был не выше Наполеона? Или у меня столичная тяга к гигантизму?
Внизу шумел морской порт. Там я узнал, что моё судно прибывает завтра утром. Места телеграфом из Санкт-Петербурга мне забронированы, так что приключение начнётся с рассветом! (В театрах в таких случаях дают звуки грома или тревожный пассаж на бейном басе или тубе.) Волнуюсь больше, чем перед свиданием с вами, Лиза. Хотя ничего более головокружительного в моей жизни не было. Отправить следующее письмо удастся только в конечном пункте путешествия – Лоренцу-Маркише.
P.S. И если вы уделите десять минут вашего времени, то там меня будет ждать ваше письмо. Эдакий приятный сюрприз для измученного морской болезнью (хотя это не доказано) человека. С уважением и другими чувствами Леонид Фирсанов. Одесса. 22 октября 1899 года».
Октябрь-ноябрь 1899 года. Одесса – Лоренцу-Маркиш
Пограничная процедура для Леонида, как пассажира первого класса, прошла удивительно быстро. Ровно столько, сколько потребовалось улыбающемуся чиновнику сделать какие-то пометки в документах. Таможенник беглым взглядом окинул открытый саквояж и величественным кивком пропустил его дальше. Леонид по инерции торопливо выскочил из небольшого причального павильона, так до конце не поняв, что он уже за границей.
Чёрный корпус корабля с белой надписью «Kanzler» нависал над самым причалом и подавлял всё вокруг. Таких больших судов Фирсанов прежде никогда не видел. Он был огромен, и Лёне показалось, что он выше Исаакиевского собора, что само по себе для любого петербуржца было несусветной чушью. Пузатое тело корабля венчали прямолинейные белые надпалубные надстройки, а по корпусу везде, где хватало глаз, были рассыпаны иллюминаторы. «Мастерская Вулкана», – окрестил про себя это гигантское произведение индустриализма Леонид. Трап пружинисто качался под ногами и, кажется, гудел от накопленной за многие плавания энергии. Так ему это виделось. Или впечатлительному юноше всё показалось?
Каюта первого класса была уютна и блестела какой-то особой, сверхъестественной чистотой. Стены были отделаны панелями в белых рамах, обтянутых шёлком. На двери, ткань, естественно, пожалели, но и этого было достаточно для того, чтобы избавиться от впечатления, что тебя запечатали в стальной коробке, как муху в янтаре. Кровать с белыми спинками была слегка приподнята над полом, а за занавесочкой в нижней части можно было спрятать не то чтобы необходимый багаж, а маленького слонёнка вместе с погонщиком. Небольшой круглый стол с лампой под зелёным абажуром, шкаф и несколько мягких стульев. Правда, кровать и стол были прикручены к полу. Но для чего это, Леонид быстро сообразил. За лёгкой занавеской скрывался иллюминатор, но не маленький круглый, а большой четырёхугольный со скруглёнными краями. Его стеклянная створка была забрана в крупную свинцовую плетёную сетку, чтобы не разбиться при ударе волны или порыве ветра. Фирсанов тут же откинул её и высунулся по пояс. Увидел фрагмент палубы и лестницу на нижние горизонты. Но больше всего молодого человека восхитили набрасывающиеся латунные барашки для герметичного закрывания. Во время непогоды или шторма будет сухо. Оглянувшись и удостоверившись, что его никто не видит, он подпрыгнул и издал воинствующий клич. Началось!
Потом степенно вышел на палубу и стал дожидаться отправления. На берегу не могло быть Елизаветы, но глаза, вопреки здравому смыслу, разыскивали её в толпе. Неожиданно пароход мелко задрожал, низко хрипло дважды рыкнул, щель между бортом и причалом, в которой закипела морская вода, стала увеличиваться. «Прощай, Родина! Прощай, дом. Прощайте, друзья-товарищи. Прощай, империя моя!» – пронеслось в голове Леонида. Чайки противными гортанными криками предрекали что-то нехорошее и истерично кружили над головой. Запах морской соли и йода свербел в носу, а ветер стал таскать за вихры, будто наказывая его за то, что покинул Отечество. Но что сделано, то сделано. Назад дороги нет, к старому возврат невозможен. И как бы подтверждая эту мысль, на «Канцлере» басовито и длинно заревела сирена, да так, что у Леонида ёкнуло сердце.
Порт исчез, город ушёл к горизонту, и Леонид замёрз. Его стала бить крупная дрожь, но он жадно всматривался в ещё русские берега. Потом стюард пригласил его на завтрак, и Фирсанов сдался.
В Стамбул вошли на рассвете и истошный крик муэдзина, призывавший правоверных на утреннею молитву, разбудил Фирсанова.
Стоянка, по морским меркам, была короткой – всего шесть часов. Так что Леонид решил побродить по городу иной цивилизации. Город белой чашей поднимался от кромки воды к холмам. Огромное количество мелких рыбацких фелюг с косым парусом, не обращая внимания на огромный корабль, шныряло перед его носом. Такая же суета творилась на дальней кромке бухты.
Первым, что бросилось – нет, не в глаза, а в уши, – так это гортанность местного населения. Встретившись, видимо, давние знакомые, начинали беседу ещё метров за сто до того, как сблизились, при этом им был плевать на всю эту разномастную и гомонящую толпу. Они вносили свою музыкальную лепту в эту бурлящую массу. И так поступал каждый.

