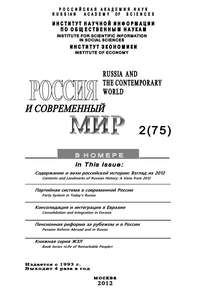
Россия и современный мир №2/2012

Юрий Игрицкий
Россия и современный мир №2/2012
РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
О РУССКОМ И СОВЕТСКОМ: ВЗГЛЯД ИЗ 2012 ГОДА
Ю.С. ПивоваровПивоваров Юрий Сергеевич – академик РАН, директор ИНИОН РАН«И все так же, не проще,
Век наш пробует нас…»
Александр Галич
Конец 2011 и начало 2012 г., не сомневаюсь, окажутся весьма заметными в последующей исторической ретроспективе. Можно даже дать точную датировку этого периода: суббота 23 сентября 2011 г., когда Владимир Путин устами «младшего царя» Дмитрия Медведева выдвинул себя на новое президентство, – понедельник 7 мая 2012 г., когда «старший царь» вступил в свою новую–старую должность. Ну, и «вокруг» последней даты: Путин передал Медведеву лидерство в «Единой России» и кресло премьера, Государственная дума подтвердила решение Владимира Владимировича. В промежутке были выборы – скандальные парламентские и вполне ожидаемые президентские. Если бы эти семь с половиной месяцев свелись лишь к этим событиям (и им подобным, однако эти наиболее впечатляющи и как бы впитывают в себя того же рода другие), то книгу русской истории следовало бы закрыть. На время. И сказать себе: все одно и то же, мы ничему не хотим учиться, страна обречена на вечный «дежа вю»…
И вдруг общество взорвалось. Не только болотно-сахаровскими митингами, инициативными «круглыми столами» и «практическими семинарами», интернетовской бурей протеста и беспощадным натиском «Новой газеты» (и некоторых других, правда более робких), не только бесконечными приватными обсуждениями и обсуждениями действий режима. Оно взорвалось моральным негодованием и неприятием. Не все, разумеется, общество, а та его часть, которая есть «гражданская», «civil society», «civil culture». – Должен сказать, что практически все крупные социальные трансформации имеют своей причиной (или обязательным условием) определенную моральную позицию этого самого «civil society».
Наше общество переросло то устройство, которое сложилось у нас в послевоенный хрущёвско-брежневский период, во многом трансформировалось в ходе революции конца 80-х – начала 90-х годов и обрело свой нынешний вид в путинское десятилетие. Я настаиваю на том, что русская социальная эволюция шла именно таким образом. Ленинско-сталинский режим тотальной переделки, суицидального террора, беспримерно-насильственной мобилизации и отказа от универсальных человеческих ценностей сошел на нет в ходе Отечественной освободительной войны и мракобесных судорог середины века. После ХХ съезда начинают завязываться основы гражданского общества, а победившая Сталина номенклатура переходит от людоедства к более естественным формам социального питания. Иными словами, на смену мобилизации и террору являются медленно-противоречивая эмансипация и скромное потребление. Горбачёвско-ельцинский период проводит полную демобилизацию и отдает Россию на разграбление наиболее витальной и современно мыслящей части советской номенклатуры. Историческое значение Владимира Путина состоит в создании эффективного механизма по эксплуатации материальных богатств России в пользу небольшой части общества. В сфере политики и идеологии устанавливается уникальный строй – самодержавно-наследственное (или преемническое, или сменщицкое) президентство, опирающееся на авторитарно-полицейско-криминальную «систему» и отказавшееся от правовой и исторической легитимности.
Так вот, кажется, этот порядок перестал «соответствовать» русскому обществу даже минимально. И оно готово перейти к другим социально-властным отношениям. Повторю: морально готово.
В свете всего этого, в новом историческом контексте и хотелось бы обсудить некоторые, с моей точки зрения, принципиально важные темы эволюции отечественного социума. Это те темы, без прояснения которых нам будет трудно сдвинуться с места (нынешнего). К ним относятся: природа реформ и реформаторства, «архетипы» русского общественного развития, сущность советизма. Иными словами, что означает «реформа», в которой мы нуждаемся. Каковы некоторые важнейшие особенности русского общества, с которыми неизбежно столкнутся реформаторы. Что такое «советское», от которого мы хотим уйти.
О реформах2011 был не только годом общественного запроса на реформы, но и памятной датой ряда событий, определивших судьбу русского реформаторства. Исполнилось 150 лет со дня освобождения крестьян от крепостного состояния, 100 лет со дня убийства выдающегося преобразователя П.А. Столыпина, 90 лет началу НЭПа, 20 лет – ельцинских реформ. В общем, все подвигало нас обратиться к этому вопросу.
Вглядимся в эпоху конца XIX – начала XX в. Сегодня понятно, что 50 с лишним лет от Великих освободительных деяний Александра II до столыпинских преобразований можно рассматривать как единый исторический «эон». Собственно говоря, так и делается: в науке принято говорить о пореформенном периоде. Нам же представляется, что точнее было бы назвать его периодом реформ. Они ведь не прекращались с 1861 г. по Февральскую революцию. Даже 1880-е годы («дальние, глухие», по выражению А. Блока), которые принято называть контрреформаторскими, были временем некой естественной приостановки для того, чтобы прийти в себя, осмотреться, успокоиться и двигаться дальше. При этом в экономической, социальной и правовой сферах реформы продолжались (имеются в виду развитие капитализма и введение передового трудового законодательства). И для всего периода характерен, как сказали бы в советские времена, комплексный подход. Реформы затронули практически все сферы жизнедеятельности русского общества. Это было наступление широким фронтом с продуманной программой мер. Они были связаны друг с другом; какая-то одна реформа влекла за собой другую в иной сфере и т.д. Правда, когда мы говорим об эпохе Великих реформ, мы всегда подчеркиваем их комплексность (крестьянский вопрос, сельское и городское самоуправление, суды, образование – начальное, среднее и высшее, военное дело), а применительно к столыпинским реформам мы зацикливаемся на вопросе общины. Но ведь план Столыпина, обнародованный им 6 марта 1907 г. в Государственной думе, включал в себя вопросы реформирования государственного управления, прав человека, социального законодательства и т.д. Более того, Столыпин совсем не был тем самым прогрессивным разрушителем консервативной общины, каким он рисуется многим. В этом вопросе он занимал позицию золотой середины: те, кто хотят и могут, пусть выходят, а те, кто не хотят и не могут, пусть остаются. Обратим внимание: большинство осталось.
Что еще важно в понимании эпохи реформ? В нашей науке и, соответственно, в сознании недоучитывается та громадная повседневная работа, которую вели русское государство и русское общество по узнаванию своей страны (помните неожиданные слова Ю.В. Андропова, что мы своей страны не знаем), упорядочиванию этого знания и, так сказать, упорядочиванию самой страны. Мы имеем в виду гигантский труд отечественных статистиков – они создали «банк данных» о России, без которого ее существование в современном мире было бы невозможно. Это касается и наследника Российской империи – СССР. Была также произведена кропотливая, тяжелейшая работа по межеванию земель. Тогда же произошел подъем архивного дела в России, т. е. началось формирование социальной памяти. Переживают расцвет фольклористика и археология. Всем известен и взлет русской науки этой эпохи. В известном смысле слова, Россия тех лет стала палатой мер и весов, лабораторией по самосознанию и созданию нового знания.
И еще одно. У времени реформ был совершенно определенный вектор – эмансипация (или самоэмансипация) российского общества. Успешное движение в этом направлении обеспечивалось следующими принципами: реформы – 1) должны проводиться в соответствии с русскими историческими традициями; 2) опираться на положительный опыт передовых европейских государств (Германия, Франция, Австро-Венгрия, Соединенное Королевство); 3) это дело не только государства, но и общества; 4) их смысл – в постоянном, несмотря ни на что, расширении круга участников принятия кардинальных решений; 5) они способствуют еще более тесной интеграции с Западом; 6) не должны привести к «растворению» России в современном мире в форме того или иного сырьевого придатка (донора) этого мира; 7) на заключительных стадиях (или этапах) реформ самое пристальное внимание стало уделяться «восточному» направлению русской политики и экономики (здесь речь идет и о подъеме Сибири и Дальнего Востока, и о понимании грядущей роли Азиатско-Тихоокеанского региона, и о проблемах, связанных с выходом России в самое сердце Центральной Азии); 8) они проводились на общеконсенсусной основе – и это при громадных противоречиях, существовавших между троном, бюрократией, дворянством и поднимавшимся гражданским обществом. Несмотря на трагизм этих противоречий, компромиссно-консенсусное начало нарастало. (Тем более трагическим представляется срыв с этой линии зимой 1916–1917 гг. Но даже это не отменяет факта усиления компромиссно-консенсусного типа развития.)
Смысл реформ-эмансипации заключается еще и в следующем. Настоящая реформа – а мы признаем реформы эпохи трех последних царствований настоящими – не крушит наличный мир, а преобразовывает его, совершенствует. По своей природе она нацелена не на уничтожение каких-то, казалось бы, устарелых форм, а на развязывание возможностей для становления тех сил, что зреют в рамках этого мира. Иными словами, настоящая реформа создает институты и процедуры, в которых актуализируется скрытое в старых формах новое, потенциальное. Реформа – это упорядочивание новых возможностей, нового баланса сил и проч. Повторим, таковыми по преимуществу были реформы второй половины XIX – начала ХХ столетий. Но именно здесь и таится опасность: раскрывая широко окно возможностей, реформаторы, вне зависимости от того, хотят они этого или нет, создают основу для новых конфликтов, новых противоречий, новых вопросов. И в этом смысле всякая реформа, всякая эмансипация – всегда и увеличение социальных рисков. Перефразируя известные слова Ленина, можно сказать: реформа порождает новые конфликты. То есть период свободы требует новой, более высокой цены за социальный порядок. Поэтому для проведения реформ необходимы социальное мужество и социальная ответственность…
Свобода или опричнинаОднако не все то, что делается по переустройству общества, можно квалифицировать как реформы. Реформой, видимо, следует считать такие действия, которые заключаются в решении вопросов, стоящих перед обществом, на путях расширения зоны свободы прежде всего индивидуальной, – и, соответственно, личной ответственности. При таком подходе деяния Петра Великого, к примеру, не подпадают под эту характеристику. Все те громадные новации, которые внес в русскую жизнь этот человек, имели своим главным результатом дальнейшее закабаление населения России. И даже если признать за Петром – а мы признаем – заслугу в деле русского просвещения, то и это не отменяет главного результата его действий. Более того, трагическое несоответствие просвещения и крепостничества и стало основным взрывным элементом русской революции и Гражданской войны. Причем социальная опасность одновременности просвещения и закрепощения не была преодолена даже Великими реформами.
Реформа – это всегда конфликт; повторим: настоящая реформа не уничтожает его. Но создает легитимные и эффективные процедуры протекания. Реформа – это политика осознанного принятия социальной конфликтности как фундамента для нормального, здорового развития общества. Реформа – это отказ от единственной и тотальной идеологии; отказ от принципа «кто не с нами – тот против нас»; отказ от понимания другого / иного как врага. Реформа – это то, что сегодня американский политолог Джозеф Най называет «soft power». В своей последней книге «Власть в XXI в.» Най говорит, что смысл soft power в том, что в ходе ее применения увеличивается количество друзей и уменьшается количество врагов. «Hard power» действует наоборот. Реформы – это также то, что Най квалифицирует как «smart power». Смысл этого последнего заключается в том, что настоящий реформатор всегда принимает во внимание позиции в обществе различных социально ответственных сил, включая и противостоящие ему, способствует их усилению.
Одним из заблуждений русского сознания является уверенность в том, что реформы может проводить власть и только власть. Нет, опыт последних 100 лет показывает: реформирование практически всегда есть дело рук и власти, и общества. Там, где общества нет – в том смысле, что оно еще не готово взять на себя часть бремени социальной ответственности, – реформы, даже блестяще задуманные и продуманные, не удаются. Пример: Михаил Сперанский. Его гениальный проект преобразований оказался не по плечу тогдашней России. И Александр I мгновенно и безболезненно свернул робкие начинания и громкие обещания. Оказалось, что Сперанский предложил России план «на вырост». А когда русское общество подросло, тогда оно в тесном союзе с властью и одновременно в жестком противостоянии с ней реализовало план Михаила Михайловича.
Говоря сегодня о реформах как об эмансипации, мы не можем не затронуть вопроса о том, что является прямой противоположностью реформы, но в массовом сознании именно это противоположное нередко полагается высшим достижением русской цивилизации. Мы хотим сказать о трех персонажах, несомненно, любимых, нередко даже и бессознательно, многими русскими людьми. Это Иван Грозный, Петр Великий и Иосиф Сталин. Их обычно противопоставляют «гнилым и неудачливым» либералам-интелли-гентам. Так вот, в нашем обществе усиливается убеждение, что высшие русские успехи – это всегда жесткая, не щадящая никого, «варварская» модернизация. Причем варварство оправдывается одними потому, что «так было всегда и у всех», другими потому, что «с русскими по-иному нельзя». Главное – в том, что одержаны великие победы, создана великая страна.
Мы не будем полемизировать с ними. И для нас неважно даже то, что сразу после физического исчезновения этих людей все их великое почему-то рушилось. Нам эти люди и их действия важны, повторим, тем, что они суть не реформаторы и реформы, а нечто им противоположное, и что в результате этих действий трижды в нашей истории возникала по существу одинаковая и по существу тупиковая ситуация. При всем естественном различии исторических эпох, в которые действовали эти персонажи, они приходили к одной и той же социальной конфигурации. Мы бы ее назвали так: опричнина-земство.
Отказавшись от экспериментов Избранной Рады, поскольку они не обеспечивали усиления собственной власти, а напротив, «демократизировали» социальный порядок (мы понимаем всю условность используемой терминологии), Иван IV придумал следующий механизм. Бóльшая – в количественном отношении – часть страны живет, вроде бы, как и жила: в рамках привычных, традиционных форм. А рядом создается новое общество, которое освобождено от этих форм и которому «все позволено». Таким образом, перед нами феномен расколотого социума, где одним велено изображать жизнь в старых ее формах, а другим дозволено делать с этой земщиной все, что захочется и что прикажут. По-своему такая расстановка сил выгодна, как это ни парадоксально, обеим сторонам. Она, на самом деле, воспроизводит властно-социальную диспозицию, к которой Русь привыкла, адаптировалась за два примерно с половиной столетия монгольского ига. То есть это ордынский порядок, где в роли опричнины Орда, а земщины – Русь. И когда мы сказали, что и земщине выгоден такой порядок, мы имели в виду то, что иной был и непредставим, и неизвестен.
Почему же он провалился? Иван Грозный не сделал главного шага – того, который удался его наследнику Петру. Он не придал этому сконструированному им расколу культурно-мировоззренческого антагонизма, который, кстати, предполагала классическая ордынская модель. С одной стороны, кочевая, языческая, затем мусульманская, по преимуществу тюркская Орда, с другой – земледельческая, христианская, славянская Русь. К концу же XVII столетия у Петра Алексеевича на руках уже были все козыри, полный инструментарий для конструирования этого самого культурно-мировоззренческого антагонизма. Причем, как и в случае с Иваном Грозным, новой ордынизации России предшествовал период «демократических» экспериментов другой Избранной Рады – «правительств» Фёдора–Софьи–Голицына. И потому этому будущему мореплавателю, академику и плотнику уже не надо было проводить самому «демократические» опыты, которые, ясное дело, вели всю систему к бóльшей социальной плюрализации и расширению зоны свободы.
Два десятилетия Петр создавал новую опричнину, говорящую по-немецки, и новую земщину, которая, вроде бы, живет по-старому – ведь никто не отменял Соборного Уложения его папы. Повторим: Петр учел историческую недоработку Ивана Грозного. Он ведь хорошо помнил, как земщина разгулялась в начале XVII в. и, несмотря на усилия прадеда, деда и отца, в общем, для русских условий довольно вольготно гуляла до конца столетия. Петровская европеизированная опричнина хорошо знала и эффективно делала свое дело. Это было связано еще и с тем, что и здесь Петр пошел дальше своего великого предшественника (Ивана IV). Иван Васильевич, расколов правящий слой, не довел до логического конца начатое. То есть не истребил поголовно не принятых в опричнину крупных, мелких и средних «феодалов», которые, как мы знаем, и учинили на развалинах грозненского орднунга «лихие нулевые». А Петр сделал все правильно. Сначала, в качестве социального предупреждения, он порубил головы «оппозиционерам», и, тем самым запугав и усмирив свое правящее сословие, превратил его скопом в новых опричников. То есть заставил отречься от своего феодальства и от своей земской русскости (заставил их считать себя немцами).
Дело Петра простояло дольше, но в целом недолго. Не случайно русская история после смерти Петра называется постпетровской. Но для нас эта неслучайность другая, нежели общепринятая. Сразу после его смерти начался, по сути, хотя это и не было так заметно, другой период. Оказалось, что и петровская опричнина не столь крепка и, как ему хотелось, эффективна. Внутри нее мгновенно вспыхнула свара, она раскололась на враждебные группировки и имела дерзость менять людей на троне. В конечном счете доигралась до того, что получила свободу. И это было мщением Петру…
Схожим образом действовал Иосиф Виссарионович. Его опричниной, как мы понимаем, была верхушка советского общества, составленная из партийных, чекистских, хозяйственных номенклатурщиков. Им тоже было все позволено по отношению к той части общества, которая в нее не вошла. Никаких ограничений не существовало. Советской же земщине дали все, чтобы она считала себя самой счастливой: и лучшую в мире конституцию, и лучшее образование, и самую справедливую систему социальной защиты, и бесплатное жилье, и поразительно комфортное оптимистическое мироощущение. Разумеется, поскольку в этот раз земщина была так щедро облагодетельствована, сталинская опричнина – орда – для того, чтобы ей самой существовать и дальше (заметим, в русской истории земщина всегда могла существовать без опричнины, а наоборот – никогда), – была вынуждена ввести некоторые ограничения / изъяны. Так, табуизировалось любое кроме утвержденного на сегодня мировоззрение (здесь очень важно «на сегодня»: верность тому, что было «на вчера», квалифицировалась как смертное преступление). Временно, до момента окончательной победы коммунизма, отменялись все права человека. И даже те, которыми ему разрешали пользоваться, он мог пользоваться только по разрешению. Навсегда отменялись выборы. Но здесь иного и быть не могло: ведь в социалистическом обществе не было антагонистических противоречий – значит, не было и конфликта интересов. Впрочем, мы не будем дальше перечислять те ограничения, которые, повторим, была вынуждена ввести сталинская орда-опричнина. Удивляет лишь одно: что этот творец нового, небывалого так много восстановил в русской жизни старого, привычного. В первую очередь, конечно, крепостное право для крестьян. А во вторую, для горожан.
Новизной сталинского орднунга было то, что он, подобно Петру, который учел недостатки эксперимента Грозного, учел недостатки эксперимента Петра. А у Петра они были существенными. Он ведь в лице своих опричников ввел Россию в Европу, а опричники – они тоже ведь люди – подверглись тлетворному влиянию Запада, что привело к тому, что они стали как-то остывать к своему основному предназначению и все больше увлекаться идейками, стишками, – в общем, всей этой разлагающей русского опричника «материей». Сталин, хотя и говорят, что у него одна рука была повреждена, быстро и властно самолично опустил железный занавес. И, надо признать, сталинские и даже большинство послесталинских опричников оказались вне сферы тлетворного влияния Запада.
Далее. Сталин понимал, что настоящим, подлинно боевым и соответствующим эпохе модернити опричником нельзя быть в нескольких поколениях. Сомнителен уже сын опричника – тем более, внук. Почему-то инерционно не удерживается главное предназначение опричника – бороться с врагами России (сталинского СССР). А вот Петр этого не знал и однажды, создав касту опричников, дал ей социально-физиологическое право плодить опричников во многих поколениях. Конечно, этот петровский недосмотр не мог не привести к вырождению опричного начала. Но Сталин понимал, что даже один человек в течение всей своей жизни не мог быть всегда опричником – несколько лет мог, а потом нет. И он ввел практику постоянного уничтожения опричных кадров с целью обновления и усиления опричного потенциала. Знаменитое кагановичевское: «Мы снимаем людей слоями». И надо сказать, этот новаторский для мировой истории прием принес небывалые плоды. Режим сталинской опричнины доказал свою полнейшую эффективность в решении тех задач, которые ему ставились, прежде всего в отношении земщины.
Но Сталин пошел еще дальше. Он многократно сообщал земщине и следовал этому сообщению, что кадры будущей опричнины рекрутируются из земщины, а не из рядов нынешних опричников. Тем самым он сделал свою опричнину общенародной. Теперь каждый советский человек в принципе мог стать опричником. К сожалению, он не учел двух обстоятельств (но в оправдание скажем, что их и невозможно было учесть). Первым обстоятельством стала война, в условиях которой непрекращающийся и прогрессивный по своей исторической сущности процесс обновления опричничества стал невозможен. Сталин, как трезвый государственный стратег (это А.И. Солженицын о нем; не верите? да вот сноска1), отказался на время войны, в отличие от Гитлера, вести войну на два фронта – с фашизмом и своим народом. Он сосредоточил все силы на борьбе с фашизмом и в этой войне победил. И начал проигрывать в борьбе со своей же опричниной, а поскольку каждый советский человек являлся потенциальным опричником, – то и со всем советским народом.
Второе обстоятельство – это его смерть, которая до конца обнажила антагонистическое противоречие сталинской конструкции опричнины. Соотношение «Сталин–опричник» было таковым: вечный Сталин и опричник на краткий исторический миг. Но оно было заморожено, пока он жил. Когда он умер, началась оттепель. Опричники решили тоже стать вечными. И всё – сталинская система была обречена.
Подведем итоги. Все три опричные системы обязательно гибнут после смерти своих демиургов. Но какой-то исторический период они существуют в более мягких, размытых формах. Выход из этих исторических тупиков бывает различным: через Смуту и искания XVII в. – к возвращению вновь к опрично-земской модели; через Великие реформы и трагедию революции – к новой опрично-земской модели; и вот ныне – то, что перед нашими глазами, процессы, соучастниками которых мы являемся. Чем это закончится, неизвестно.
Есть еще три вещи, о которых необходимо сказать. Опрично-земская система в России не случайность, но историческая традиция. Опрично-земская система недолговечна и заканчивается либо крахом, либо попыткой перейти к какой-то иной модели. Возвращение к опрично-земской системе в условиях современного мира представляется маловероятным. Если же попытки будут предприняты, то, по всей видимости, они закончатся небывалым историческим поражением, поскольку принципы этой системы полностью несовместимы с вектором мирового социального развития. Кроме того, эти попытки столкнутся с фундаментальным сопротивлением в самом русском обществе, которое, как представляется, переросло это конструкцию и вполне готово к социальному творчеству и реформам.
А теперь немного истории…
Несколько слов о генезисе русского опрично-земского орднунгаКак же происходило его формирование? – Об этом весьма убедительно пишет современный отечественный историк Н.С. Борисов. «Со времен Ивана Калиты московский князь играл роль общерусского “сельского старосты”. Орда возложила на Даниловичей обязанности по сбору дани, поддержанию повседневного порядка и организации разного рода “общественных работ”, главным образом, военного характера»2. Вообще-то должность общерусского сельского старосты была многотрудной, но в то же время исторически благодарной. Поскольку был приобретен бесценный опыт. «Великий князь Владимирский отвечал перед ханом за все, что происходило в “русском улусе”. Он имел множество недоброжелателей, завистников и клеветников. Остерегаясь козней врагов, он должен был быть всегда начеку, иметь надежную охрану и не жалеть средств на разведку. (Представляю, с каким пониманием прочли бы эти строки позднейшие русские правители. – Ю.П.) Однако всякий труд предполагает вознаграждение. Даниловичи уже в силу своего первенствующего положения получили ряд преимуществ перед другими князьями. Через их столицу шли “финансовые потоки” – дань в Орду со всей Северо-Восточной Руси. Они имели исключительное право на аудиенцию у хана и, пользуясь этим, могли устранять своих соперников руками татар. Эти две привилегии великие князья охраняли как зеницу ока»3. – Автор подчеркивает: «В роли “общерусского старосты”, назначенного Ордой, московские князья… накопили большой организаторский опыт, научились добиваться неуклонного исполнения своих требований, наладили обширные личные и династические связи. Весь этот сложный механизм до поры до времени работал в интересах и на благо Орды»4.