
Стоящие свыше. Часть IV. Пределы абсолюта
– Итак, Йелен, – продолжил профессор, когда Йока отхлебнул из бутылки несколько глотков, – мы остановились на том, что ты – Вечный Бродяга. Ты человек, появления которого мрачуны ждали несколько столетий. Которого несколько столетий ждал Исподний мир. Что ты скажешь мне как мрачуну и Змаю как богу Исподнего мира? Я не требую готового решения. Мне интересно, что ты думаешь об этом.
Если бы об этом спросил Змай, Йока не задумываясь ответил бы «не знаю». Но Важану так ответить было нельзя: неловко как-то, несерьезно… И прежде чем что-то сказать, Йока еще раз хлебнул из бутылки – чтобы попросту оттянуть время.
– Что произойдет, если Откровение Танграуса сбудется? – спросил он наконец. – Кроме того, что погаснут солнечные камни?
– Я бы поставил вопрос по-другому: что произойдет, если Вечный Бродяга прорвет границу миров?
– Хорошо, что произойдет, если прорвется граница миров?
– Рухнет свод, – спокойно ответил профессор. – Впрочем, он и без этого рано или поздно рухнет. Но его энергия хлынет не только в Обитаемый мир, но и в Исподний. И чем шире будет прорыв, тем быстрей энергии миров придут в равновесие, тем меньше будет жертв и разрушений.
– А почему погаснут солнечные камни и рухнет свод?
– Потому что вначале в Исподний мир пойдет энергия чудотворов. И те поля, которые сегодня создаются аккумуляторными подстанциями, станут в одночасье в несколько раз слабей. Исподний мир просто высосет их. Граница миров держит эти поля, как пальцы – тетиву натянутого лука. Я достаточно понятно объяснил?
– После пятимерных пространств и их измерений – вполне, профессор, – ответил Йока вызывающе.
Змай, до этого молчавший, расхохотался.
– Ты всегда был не в меру дерзок, Йелен, – фыркнул Важан, но беззлобно, скорей довольно.
– Профессор, давай поставим еще одну точку над «i», – предложил Змай.
– Поставь, – проворчал Важан, посмотрев на него снизу вверх, но так снисходительно, будто и Змай был его учеником.
– Йока Йелен, чудотворы предлагают другой выход из ситуации. Они считают, что Вечный Бродяга может сбрасывать в Исподний мир большие энергии, это ослабит давление на свод и оттянет его падение.
– На сколько? – тут же спросил Йока.
– Максимум – на время твоей жизни.
– А минимум?
– А минимума никто не знает, Йелен, – вмешался профессор. – И завтра ночью я попробую его определить.
Йока хлебнул из бутылки снова и сказал, стараясь выглядеть как можно старше:
– Я пока ничего не могу сказать. Я не готов принять на себя такую ответственность.
– Тебе надо решить лишь одно: на чьей ты стороне, – пожал плечами Важан.
– Нет. Мне надо решить совсем другое.
– Он прав, профессор. – Змай пошевелил хворост в костре. – Это мы давно решили за него. А ведь никто на самом деле не знает, какой путь лучше. Во всяком случае, с точки зрения Йоки Йелена. Я выбрал путь, лучший для Исподнего мира, ты – для мрачунов, Инда Хладан – для чудотворов. А Йока Йелен что должен выбрать?
– Но ты же не сомневаешься в своей правоте? – спросил у Змая Важан.
– Я не сомневаюсь в том, что для Исподнего мира лучшим выходом будет прорыв границы миров. И… Йока Йелен, кончай хлебать вино. Ты выпил больше полбутылки, а нас тут трое, между прочим.
* * *
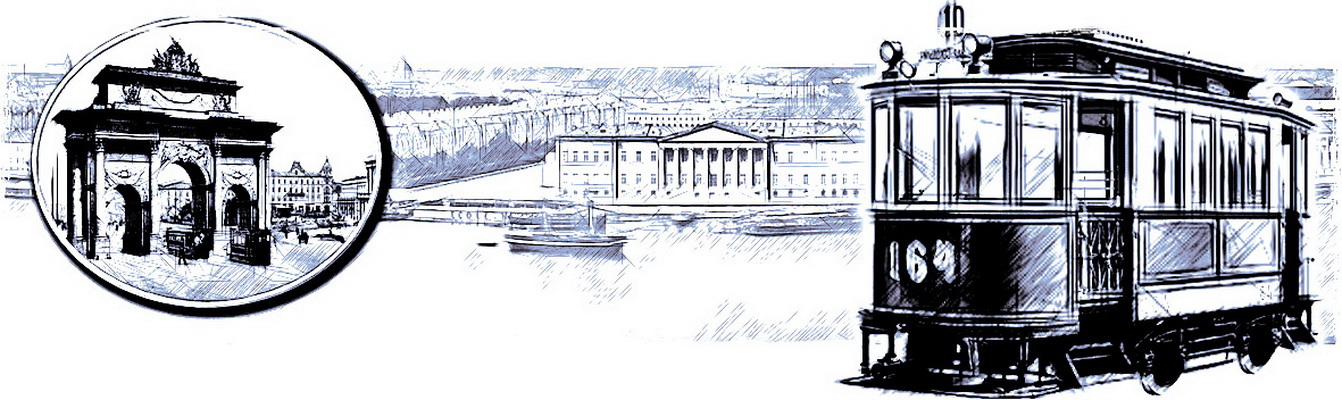
В газетах появились все фотографии с рисунками на валунах, кроме одной – той, на которой Инда Хладан держал в руках ребенка. Думская пресс-служба насчитала в общей сложности около восьми базовых версий случившегося, выдвинутых газетчиками, всего же версий было не меньше сорока. История в считанные часы вышла на международный уровень, и если в Славлене об этом писали утренние газеты, то в Натане и Годендроппе – дневные, а в Афране и Ламиктандрии – вечерние.
Йера на несколько дней стал едва ли не самым известным человеком в Обитаемом мире, пресса осаждала не только здание Думы, но и его личный кабинет, здание суда, где он продолжал служить только номинально, и – самое неприятное – дом в Светлой Роще. Разогнать журналистов не удавалось даже полиции, они в прямом смысле лезли не только в двери, но и в окна. Йера доверял всей прислуге, кроме, пожалуй, новой няни, но, как ни убеждал себя в обратном, не мог положиться на Ясну. После того как она взглянула на карточку Мирны Гнесенки, ее состояние оставляло желать лучшего, и Сватан даже приглашал к ней своего коллегу из клиники доктора Грачена.
Слухи о пропаже Йоки просочились в прессу, и кое-где мелькали версии не о поступлении в престижную школу, а о том, что мрачуны взяли мальчика в заложники с целью помешать работе думской комиссии.
Йера еще во вторник вечером получил от Важана вторую телеграмму – на этот раз приватную, присланную на домашний телеграф, – о том, что Йока находится у него в доме и пока ему ничто не угрожает. Более того, профессор считает своим долгом позаботиться о том, чтобы мальчик получил аттестат о среднем образовании, для чего готов пригласить к нему учителей с хорошими рекомендациями и большим опытом преподавательской работы. Сура собрал вещи Йоки, которые были отправлены в усадьбу профессора, и Йера не сомневался в том, что Йока действительно находится под покровительством Важана. Сам этот факт лишь подтверждал: Йера не ошибся. И карточка Мирны Гнесенки – не провокация мрачунов, и рисунки на валунах – не подделка. Когда-то Инда принес в их с Ясной дом новорожденного Врага, – возможно, и не подозревая об этом. И нервное расстройство Ясны – не фантазия впечатлительной барышни, а женское чутье.
Теперь работу комиссии Йера старался направить в сторону выяснения личности получеловека, найденного в лесу, – но то ли ему кто-то мешал, то ли сам он не был последовательным, только дело топталось на месте. Между тем невооруженным глазом было видно, что этому существу никак не четырнадцать лет. Впрочем, вероятный возраст Врага можно было изменить в сторону увеличения – кто сказал, что он должен родиться в апреле четыреста тринадцатого года?
Йера пытался настаивать на том, что находка в лесу пока ничего не доказывает и не подтверждает, но от него отмахивались все – и члены комиссии, и Председатель совета министров, и лидер социал-демократов. Всем без исключения нравился исход дела: думская комиссия обнаружила и скоро уничтожит Врага, для паники нет причин – Обитаемый мир надежен, незыблем и светел. Правда никого не интересовала, нужна была лишь видимость правды.
Инда оказался прав: Йера не посмел даже заикнуться о том, что увидел своими глазами в собственной библиотеке: чудовище, пришедшее на защиту Врага, вовсе не убито чудотворами, а спокойно выполняет миссию, предначертанную Откровением Танграуса.
Йере казалось, что он единственный человек в этом мире, которого на самом деле заботит будущее этого мира, а не иллюзия его незыблемости. От отчаянья (а вовсе не по зрелом размышлении) он попытался пустить в газеты утку о том, что существо, найденное в лесу, – лишь попытка мрачунов спрятать от людских глаз настоящего Врага. Ни одна газета не опубликовала этой анонимной статьи, а выступить в прессе с открытым заявлением Йера поостерегся: у него не было ни единого доказательства, кроме увиденной в библиотеке кобры, что и ребенок истолковал бы как видение, фантазию или фокус. И Йера бы, возможно, тоже посчитал это фокусом – если бы не разбитое Сурой стекло на журнальном столике. Змея беспомощна на стекле, и оно было убрано нарочно, заранее. В отличие от чудотворов, Йера видел оборотную сторону «фокуса» и не сомневался – «сказочник» на самом деле превратился в змею. Ни один здравомыслящий человек не захотел бы в это поверить, и Йера тоже искал бы рациональных, наукообразных пояснений, если бы не спокойствие Инды. Инда не сомневался в таком исходе разговора в библиотеке, не удивился, а словно с удовлетворением нашел в происшедшем подтверждение своих догадок.
Думу, думскую комиссию, общественность и прессу словно кто-то вычеркнул из списков посвященных, Йере казалось, что он зритель грандиозного спектакля, рассчитанного на миллионы зрителей, и никто из них не догадывается о том, что это спектакль. Вылезти на сцену и кричать о том, что происходящее – лишь представление, клоунада, не было никакого смысла. И даже те, кто мог бы догадаться о разыгрываемом фарсе, не стали бы мешать его постановщикам. Йера был один против всех: против мрачунов, чудотворов, газетчиков, депутатов Думы, лидеров политических партий. Он вовсе не желал роли спасителя мира – и роли шута на сцене разыгрываемого спектакля, – но и закрыть глаза на происходящее не мог.
Йера испытывал свои реальные возможности, пытаясь направить работу комиссии в нужное русло, но натыкался на прочные стены, возведенные вокруг него и властью чудотворов, и косностью коллег. Он уже принял решение, хотя не отдавал себе отчета в том, что оно окончательно: люди должны знать, что происходит. Дума, а не закрытый клан чудотворов, должна управлять государством. И если для этого в жертву надо принести сына, Йера обязан это сделать. Потому что никто больше этого не сделает. Потому что он один против всех, и волей судьбы его сын противостоит этому миру.
И Йера начал свое расследование – и свою войну против всех. Должность давала ему широкие полномочия (которые, как выяснилось, жестко контролировались чудотворами), но и в возведенных вокруг него стенах имелись бреши.
Йере удалось узнать имя старухи, изображенной на валунах, – она действительно была казнена в конце апреля четыреста тринадцатого года, и в газетах того времени ее имя упоминалось наряду с именами других мрачуний, объявлявших Врагом своих новорожденных детей. Папку с фотографиями, вырезками из газет, архивными документами Йера носил с собой и никому не показывал – он хотел собрать доказательства своей правоты. И одновременно подготовить общественность к открытому заявлению о реальном существовании Врага и чудовища, призванного его защищать.
Журналисты, что кружили вокруг Йеры подобно назойливым мухам, сослужили ему хорошую службу: в прессу удалось протащить слух о том, что сын судьи Йелена – приемный ребенок. Видимо, чудотворы не сочли эту информацию угрожающей, а газеты преподнесли ее как штрих к портрету Йеры – героя дня и любимца избирателей.
Информацию о Мирне Гнесенке словно нарочно стерли из всех архивов и старых газет. Даже на кладбище, где она была похоронена, кто-то безнадежно испортил ее портрет, выбитый на камне. Но Йере удалось раздобыть ее настоящую фотографию: она случайно обнаружилась в альбоме одной бывшей институтки – однокурсницы Мирны. В самом же институте, в архиве с личными делами выпускниц, красовалась та фотография, которую опубликовали все газеты. Йера забрал личное дело на экспертизу, и она подтвердила: фото наклеено туда недавно, несколько дней (а не двадцать лет) назад. Результаты экспертизы тоже легли в его «секретную» папку.
И только на один вопрос Йера никак не мог найти ответа: почему чудотворы не стремятся уничтожить Врага? Для чего всеми силами скрывают его существование? Неужели из сомнительного желания и дальше слыть непобедимыми защитниками мира от любых внешних угроз? Этот мотив представлялся Йере неубедительным.
Между тем все газеты в один голос кричали об уничтожении «Врага», найденного в лесу, и Йере пришлось приложить немало усилий, чтобы несчастное существо оставили в живых, хотя бы до подтверждения того факта, что это действительно Враг. Чудотворы же постарались и уже на следующий день предоставили экспертное заключение о том, что обнаруженный «гомункул» обладает ярко выраженными способностями мрачуна.
29–30 мая 427 года от н.э.с. Исподний мир
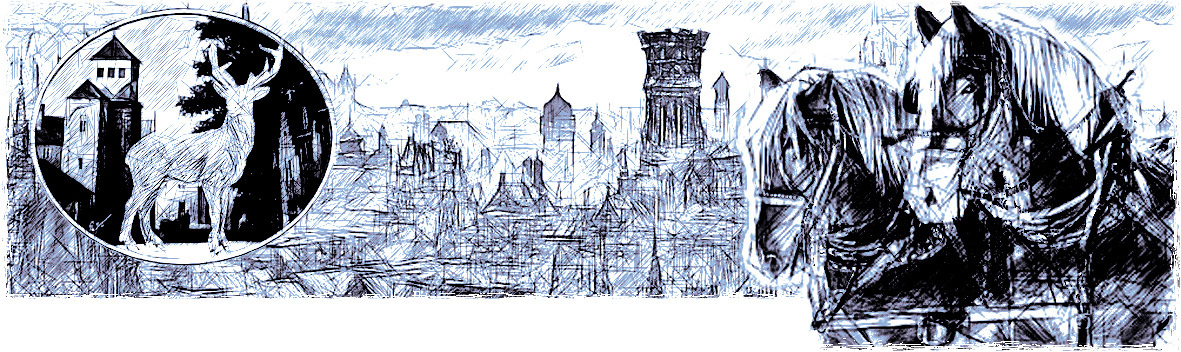
Выезд в замок Волче отсрочил на сутки – ему надо было выспаться и хоть немного отдохнуть. И Спаска была бы рада провести с ним еще несколько дней – вернуться на службу он должен был только к третьему числу, – но ночь на тридцать первое мая была особенной: праздник добрых духов. Все колдуны в эту ночь выходили в межмирье, и добрые духи особенно щедро давали им силу – Спаска ждала встречи с Вечным Бродягой.
За десять дней в Хстове она еще сильней привязалась к тетушке Любице, и та тоже не хотела расставаться со Спаской. И дело не в том, что это была женщина, которую что-то связывает с отцом, нет. Тетушка Любица много раз говорила, что Змай – кобель, каких мало, и если бы не горькая ее вдовья участь, она бы в его сторону и не взглянула. Ей больше не хватало детишек, о которых она могла бы заботиться, и если Волче в самом деле был ей вместо сына, то в Спаске она видела дочь. Нет, она не набивалась Спаске в матери, просто относилась к ней с любовью и искренним участием. Баба Пава по сравнению с тетушкой Любицей была слишком чопорной и больше волновалась о приличиях и здоровье Спаски.
Ей не пришлось рассказывать тетушке Любице о Волче – та, как и отец, сама обо всем догадалась. Но, в отличие от отца, не смеялась над Спаской, а только помогала ей. Даже согласилась обмануть Славуша, когда тот приехал, чтобы Спаску забрать.
В тот вечер, когда вернулся Волче, Спаска с тетушкой засиделись на кухне до рассвета – будто чувствовали его приближение. И работа для долгих разговоров на кухне всегда находилась: Спаска перебирала крупу, а тетушка Любица молола пряности, купленные накануне у кинских купцов. Монотонная работа и неспешный разговор успокаивали Спаску, ни с кем она не могла говорить так спокойно и откровенно, как с тетушкой, – о женском, о том, о чем не могла говорить ни с отцом, ни со Славушем, ни даже с бабой Павой. Баба Пава только и твердила, что юбки должны быть подлинней, лиф посвободней, а его вырез повыше. Тетушка смеялась над этим и показывала Спаске маленькие хитрости: как затягивать лиф, чтобы талия казалась тоньше, а грудь пышнее; как надевать юбки, чтобы они плавно покачивались в такт движениям; как приоткрывать губы, чтобы они выглядели соблазнительно, а не глупо; как в нужное время правильно показать тонкую щиколотку; когда нагнуться, а когда присесть.
– Это, милая моя, искусство, – говаривала тетушка, – соблазнять так, чтобы видны были только целомудрие и скромность. Главное – не переборщить. А впрочем, мужики ничего в этом не понимают и никогда не поймут. На эти простенькие уловки ведутся что мальчишки, что старики. Даже твой отец – уж до чего прожженный распутник, а против моих хитростей устоять не может.
Спаску такие премудрости почему-то смешили, но, вспомнив жизнь в деревне, она перестала сомневаться в правильности этих советов. Осознание того, что она уже взрослая девушка, поднимало ее в собственных глазах, раскрывало перед ней множество запертых раньше дверей, и впереди ей виделось неизбежное счастье. Рядом с тетушкой ее отпускал даже страх, словно из опасного и нелюбимого ею Хстова она переносилась в хрустальный дворец, где невозможны беда и смерть.
Нет, разговаривая с Волче, она не вспомнила о тетушкиной науке – лишь случайно поймала себя на том, что смотрит на него не так, как смотрела раньше. Одного этого оказалось достаточно…
Когда Волче ушел к Зоричу – отправить голубя в замок, – тетушка тут же вышла из кухни, оправдываясь:
– Я не подглядывала, так и знай, не подглядывала и не подслушивала. Сами встали посреди трактира. Что ж мне, глаза надо было завязать и уши заткнуть?
Спаска в ту минуту еще не пришла в себя, еще не поняла, как счастлива, не поверила, что все это не сон. Это был первый в ее жизни поцелуй, и, наверное, она представляла его по-другому – робким, застенчивым, со словами любви и обещаниями, – но все ее грезы не стоили выеденного яйца по сравнению с явью.
– Смотри-ка, сподобился… – вздохнула тетушка Любица. – Я думала, так и будет вокруг да около ходить.
– Тетушка, а это ничего, что я… ну, что все так? Мы ведь не жених и невеста… Он ведь даже не сказал мне ничего. – Спаска кривила душой – ей не было дела до приличий.
– А зачем говорить? Без слов разве не ясно? Он ломался, потому что татка твой ему сказал «не про тебя девка». А Волче твоего отца уважает, не хотел поперек него идти.
– Что, так и сказал? – Спаска обмерла.
– Ты отца-то не слушай. – Тетушка Любица рассмеялась. – Он сегодня одно думает, а завтра другое. А Волче, вот увидишь, при первой же встрече твоей руки у Змая попросит, не будет у него за спиной с тобой любовь крутить.
– И меня не спросит? – удивилась Спаска.
– Нет. Я так думаю. Но ты не переживай, отец-то спросит обязательно. Он тебя неволить не будет, разве что подождать захочет. И, милая, ты уж хорошенько подумай, чего ты хочешь. Хочешь мужем вертеть во все стороны, как тебе заблагорассудится, – лучше за своего Славуша выходи. Он тоже хороший парень, пылинки с тебя будет сдувать. А Волче, знаешь, парень простой, деревенский, строгих правил. Ласкового слова не допросишься, но зато ни в обиду тебя не даст, ни на сторону не посмотрит; как за каменной стеной с ним жить будешь, в лепешку расшибется ради тебя и детишек.
– Отец мне другого хочет. Жизни другой, – вздохнула Спаска. – Славуш богатый, у него и земля есть, и золото. Отец хочет, чтобы я как царевна жила.
– А ты?
– А я… Мне все равно. Я с Волче хочу. И не надо мне никаких ласковых слов…
– Вообще-то он хороший, добрый. Только в доме все по его будет, а не по-твоему. Как он скажет, так ты и сделаешь. А не сделаешь – тебе же хуже выйдет. Вот и думай после этого, хочешь ты царевной жить, как сыр в масле кататься, слугам приказания раздавать, или с утра до ночи у печки стоять, полы добела скоблить, детишкам сопли подтирать… – Тетушка Любица смахнула вдруг слезу. – И когда придет мужик со службы, скатертью-самобранкой перед ним стелиться…
Она расплакалась, не договорила.
– Что вы, тетушка?.. – испуганно прошептала Спаска.
– А то! А то, что пять лет я такой жизнью жила, пять лет себя, дуру, проклинала, что за такого пошла. А Предвечный жалобы-то мои и услыхал… И некому мне теперь носы подтирать, не перед кем скатертью стелиться… Да хоть бы один бы денек той жизнью пожить! Да хоть бы раз он порог переступил, хоть одним глазком на него взглянуть, детишек обнять-расцеловать. А мне Предвечный твоего отца взамен послал. Добрый он, как чудотвор белокрылый, не прикрикнет никогда, не рассердится. Да что толку с его доброты? Ни дома, ни детей, ни внуков.
– Тетушка, не плачьте… – Спаска совсем растерялась. Она редко видела чужие слезы близко. – Хотите, я вам дочкой буду? И внуков вам нарожаю… Я вас так люблю, так по вам в замке скучаю! Хотите, я вас тоже буду мамонькой называть, как Волче?
– Девочка моя любимая… – пробормотала тетушка Любица сквозь слезы и обняла Спаску.
И в этот миг зазвенел колокольчик на двери, в трактир зашел Волче – и остановился у порога.
– Мамонька, вы чего это? – спросил он удивленно. – Случилось что-то?
– А вот случилось! – Тетушка Любица шмыгнула носом и утерла слезы. – Вот случилось! Вот – дочка у меня теперь есть. И если кто мою доченьку обидеть посмеет – уж я глаза-то ему точно выцарапаю!
Волче выдохнул с явным облегчением, снял плащ и усмехнулся:
– А то ее больше защитить некому.
– А это смотря от кого! Вот если кто к невинной девушке с руками полезет…
Тетушка Любица так смешно это сказала, что Спаска едва не прыснула. А Волче почему-то смутился (даже щеки порозовели) и пробормотал обиженно:
– Да не полезу я к ней с руками…
Он хотел сразу уйти наверх, но тетушка его остановила:
– Поешь сначала, потом спать ложись. Даже не знаю – то ли завтрак это у нас, то ли ужин.
И такой это был замечательный ужин (или завтрак), так было уютно за столом – как ранней весной, когда Спаска жила в Хстове. Как будто и не уезжала никуда. И хотелось жить так всю жизнь (только чтобы отец приезжал почаще).
Волче велел разбудить его к обеду обязательно – собирался в город, – а Спаска с тетушкой Любицей так и не ложились: постирали его одежду, вычистили сапоги, повесили насквозь промокший плащ над плитой – а потом ставили тесто, щипали куропаток, шинковали капусту… Спать Спаске не хотелось – хотелось танцевать. И она кружилась по кухне с мисками и горшочками в руках, потихоньку напевая мелодию из волшебного сундучка.
– Мамонька, – слово почему-то легко сорвалось с языка, будто Спаска всегда называла так тетушку Любицу, – а зачем вы сказали, что глаза выцарапаете тому, кто ко мне с руками полезет?
– А нарочно. Он небось и не думал о таком, а теперь будет думать. Пусть подумает, им о нас полезно думать.
– А вдруг… в самом деле полезет?.. – испугалась Спаска. – Что тогда делать?
– Нет, он не такой. Думать будет, сомневаться, мучиться. Они от таких мыслей головы теряют.
– Но я вовсе не хочу, чтобы он мучился…
– Дурочка. Это им сладкая мука, без нее никак нельзя. Без нее на улице Фонарей можно девку найти – вот там никаких мук не нужно.
Когда Волче спустился к обеду, при свете дня Спаска разглядела веснушки у него на лице – совсем немного, только полосой под глазами и на переносице. Это показалось ей милым, тронуло ее почему-то – волна нежности накрыла ее с головой, и за обедом она молчала и боялась поднять глаза.
Из города Волче вернулся только к ужину, встревоженным, усталым, с серым брезентовым плащом в руках.
– В городе ищут девушку-колдунью, – сказал он, сев за стол. – Дозоры и на улицах, и у каждых ворот. Подозреваю, и на трактах. Особенное подозрение вызывают девушки в сопровождении гвардейцев – трех моих знакомцев задержали только потому, что они разгуливали по городу с девицами.
– Так, может, и не ехать никуда? – робко спросила тетушка Любица.
– А колдовать? – усмехнулся Волче.
Спаска вздохнула: если Вечный Бродяга позовет ее не завтрашней ночью, а нынешней, будет очень трудно отдать его силу здесь, в Хстове, – и не привлечь к себе внимания. В последний раз он звал ее двадцать четвертого числа, ей пришлось выйти из города с тетушкой Любицей – но тогда у ворот не было дозоров.
– Даже если я оденусь в деревенское, все равно кто-нибудь может меня узнать, – сказал Волче. – И тогда выйдет еще хуже – как я это объясню?
– Я могу мальчиком одеться, – сказала Спаска. – Меня отец раньше одевал мальчиком, когда мы в Хстов приезжали.
Тетушка окинула ее взглядом и с сомнением покачала головой.
– Я могу одеться деревенским мальчиком… – добавила Спаска неуверенно и смущенно. – У них широкие рубахи…
– А если кто-нибудь снимет с тебя шапку? – улыбнулся Волче. – Я думаю, в Особом легионе догадываются, что девочку можно переодеть в мальчика.
И хотя теперь он ни в чем Спаску не обвинял, за каждым его словом она слышала: «глупая девчонка». Загнала себя в ловушку, и… он верно сказал ночью: она не понимала ни чем рискует сама, ни подо что подставляет других.
* * *
Утром Волчок отправил мамоньку на рынок – купить одежду для деревенского мальчика. Чем бы это ни грозило, а выйти из Хстова нужно было не позднее полудня.
– Мамонька, не забудьте, что деревенские мальчики не носят ни мягких башмачков, ни удобных сапожек…
– Что, неужели надеть на девочку эти ужасные деревянные башмаки? – ахнула мамонька. – Она же собьет ножки…
Волчок поморщился:
– Это не самое страшное, что с ней может случиться…
И подумал, что мог бы до самого замка нести ее на руках, только вряд ли Особый легион оценит его усилия по достоинству, поэтому добавил:
– Ладно, пусть будут еще удобные сапожки – ночью на болоте можно будет переодеть.
Мамонька с возмущением отвергла деньги на покупку одежды и сказала, что не настолько бедна, чтобы на спасение дочери пожалеть серебра. Она, конечно, делала вид, что просто шутит, называя Спаску дочерью, но Волчок знал, что за этой шуткой стоит и искренняя привязанность, и желание на самом деле иметь дочь. Он еще весной заметил, с какой радостью мамонька покупает Спаске наряды, по-всякому причесывает ей волосы, примеряет на нее свои побрякушки – играет, словно в куклу.
– Сам, небось, в сапогах пойдешь? – ехидно спросила мамонька.
– Мамонька, когда мне было тринадцать лет, у меня не было сапог, а у моего девятнадцатилетнего брата были. Знаете почему? Потому что мой брат носил сапоги, пока они не развалились, а мне бы уже через год пришлось купить новые. Мы никогда бедняками не были, но только богачи покупают сапоги детям. А после семнадцати лет только нищий пойдет в город без сапог – у деревенских собственная гордость.
– Ладно, ладно. Я просто пошутила. Тебе видней. – Мамонька махнула рукой.
Ее дети умерли совсем маленькими – она не успела узнать, как часто им нужно менять башмаки.
– Мамонька… – смягчился Волчок. – Я же понимаю, вы в деревне никогда и не бывали… Но мне лучше с вами не ходить. И Спаске, конечно, тоже. Одежда у деревенского мальчика редко бывает впору: или велика, потому что шили на вырост, или мала, потому что младшие братья еще не подросли. Так что… без прикрас постарайтесь…