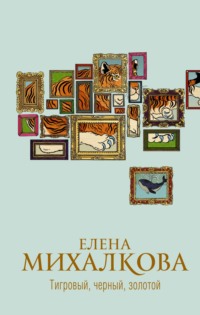
Тигровый, черный, золотой
Но старый пес поднял седую голову – и пауки убрались.
Бабкин был человек приземленный до мозга костей. А потому ему ничего не было известно о том, что знает большинство детей, – какой огромной силой обладает даже самый маленький кот и самая трусливая собака.
– Ладно, пойду к Илюшину, – сказал он. – Напишу, когда буду собираться домой. Все мороженое не ешьте, оставьте мне!
Если Макар и был удивлен его побегом, он ничем этого не выдал. Что-то записывал в планшете и кивнул вернувшемуся напарнику как ни в чем не бывало.
– У Маши все в порядке, – сказал Бабкин, думая о своем. Илюшин пристально взглянул на него. – На чем мы с тобой… А, скандалы.
– Подожди, сначала о стоимости картин. Что говорит искусствовед?
– От полумиллиона до полумиллиона.
– Сколько?!
– От пятисот тысяч до миллиона, – с удовольствием повторил Бабкин, наблюдая за выражением его лица.
– Не ту сферу деятельности мы избрали, Сережа, – печально сказал Илюшин. – Сколько барсов могли бы намалевать твои натруженные руки! Сколько тигров! Косуль! Бобров!
– Слушай, мысль у меня вот какая… – Бабкин придвинул к себе тарелку с лапшой и начал есть. – Красть эту дикую красоту можно было только под конкретного заказчика. У Бурмистрова нет такого имени в художественной среде, чтобы любое его полотно имело высокую стоимость. Музейные мыши были очень осторожны в оценке, но я понял так, что прежде его вообще никто не покупал. Следовательно, кто-то запал именно на эти две работы. Они были показаны широкой публике только в пятницу. Получается, искать надо среди тех, кто был на выставке. Мыши никого не помнят, будем опрашивать художников. Список у меня есть, завтра с утра и начнем. Хоть кто-то из них должен был заметить посетителя, который приценивался к этим картинам!
Илюшин задумчиво помешал рис в своей пиале.
– Цена для этой мазни ошеломительная, – вслух подумал он.
– Наивное искусство, не кот начхал!
– Да любой кот начхал бы лучше… Подожди! – Макар поднял на него глаза. – Кто это сказал, про наивное искусство?
– Ну, не сам же я придумал. Дьячков, само собой.
Илюшин нехорошо прищурился.
– Что? – недоумевающе спросил Сергей. – Что ты на меня так смотришь?
– Ты уверен насчет наивного искусства?
Бабкин вытянул из кармана записную книжку.
– «…яркий, может быть, даже ярчайший представитель современного наивного искусства», – зачитал он вслух. – Дальше идет сравнение с Анри Руссо. Что тебе не нравится?
– Мне не нравится искусствовед, которого нам сосватал Ясинский. Потому что ни «Владыка мира», ни «Тигры» – это не наивное искусство, и втюхивать подобную галиматью можно только человеку, который разбирается в живописи на уровне шимпанзе Конго.
Сравнение с шимпанзе заставило Бабкина помрачнеть.
– Это был очень одаренный шимпанзе… – заметил Макар в его сторону, одновременно кому-то звоня. – Анаит, здравствуйте! Макар Илюшин вас беспокоит. Нет… Нет, к сожалению, не поэтому… Но в прямой связи с расследованием. Анаит, нам требуется человек, который мог бы дать объективную оценку картинам Бурмистрова. Желательно, чтобы он не был связан с Имперским союзом художников. Я знаю, что вы искусствовед… – Бабкин удивленно посмотрел на него: он впервые слышал об этом. – Однако вы скованы этикой рабочих отношений. Можете кого-то порекомендовать?
В трубке неуверенно прозвучала фамилия Ясинского.
– Да, мы разговаривали с Ясинским и тем специалистом, к которому он советовал обратиться, – невозмутимо сказал Илюшин. – У меня есть сомнения в компетенции последнего. Нам нужно независимое мнение со стороны. Поймите меня правильно: очень независимое и очень стороннее.
В трубке повисло молчание. Сергей слушал тишину, озадаченно глядя на Макара. Макар смотрел в окно.
– Вам нужна Антонина Мартынова, – так четко проговорила Анаит, словно Илюшин включил громкую связь. – Я пришлю вам ее номер и предупрежу, что вы придете.
Короткие гудки.
Макар удовлетворенно угукнул и вернулся к рису.
– Ты считаешь, Дьячков соврал? – спросил Бабкин.
– Соврал или ошибся, не знаю. Но такое чувство, будто Бурмистров с его картинами окружен каким-то заговором молчания. Никто не может ответить на довольно простой вопрос…
– Ну, Дьячков как раз ответил.
Макар пожал плечами:
– Завтра у нас будет второе мнение. Расскажи об охраннике и скандалах. Ты сказал, их было два? И кстати, сколько человек охраняет музей?
– Двое, но девяносто процентов работы приходится на исчезнувшего Вакулина. Сейчас в музее паникуют и не знают, кем его заменить. Второй мужик поставлен на теплое место чьей-то властной лапкой. Музейные дамы к нему относятся так же, как вороны к чучелу на поле.
– Ты с ним побеседовал?
– Пытался. Он туп как пробка. Приходит, отсиживает смену и уходит. Ни с кем не общается. У него в комнатушке кипа бесплатных журналов с кроссвордами – как колонна, до потолка. Поделился, что не понимает, зачем нужно искать пропавшие картины, если художник может взять да намалевать новые.
– Тогда давай вернемся к скандалам. Два инцидента на одной выставке – это норма жизни для художников или что-то из ряда вон выходящее?
– Судя по реакции музейной дамы, скорее, редкость. Первая склока напрямую связана с Бурмистровым: художница Рената Юханцева потребовала от Ульяшина, чтобы он поменял местами ее и бурмистровские картины. Ее не устроила развеска. Ульяшин ей отказал, и она грозила ему карами небесными.
– Так, а кто такая Юханцева?
Бабкин успел навести справки.
– Она продюсер популярного ток-шоу на одном из центральных каналов. Отбирает гостей сама, держит всех в железном кулаке. Говорят, довольно известная дама!
– Значит, сначала Юханцева устраивает скандал, а по окончании выставки исчезают две картины Бурмистрова, – задумчиво сказал Илюшин. – Хорошо, а что за вторая заварушка?
Бабкин не удержался от смешка:
– После закрытия выставки, вечером в воскресенье художники устроили междусобойчик…
* * *…Разумеется, вечером в воскресенье устроили междусобойчик. Кое-кто, конечно, уехал, но многие остались – в частности, два выдающихся члена Имперского союза: Борис Касатый и Эрнест Алистратов.
Эрнест Алексеевич в творческой среде носил прозвище Геростратов. В юности Эрнест, деля одну мастерскую на двоих с другим художником, в приступе то ли творческой ревности, то ли творческого запоя сжег чужую картину.
Алистратову было за пятьдесят. Его фактурное горбоносое лицо в обрамлении черно-седых кудрей в любом собрании привлекало внимание. Он держался очень прямо, носил роскошные шейные платки – лиловые, желтые, небесно-голубые – и ошеломлял публику морскими пейзажами. Изумрудное стекло гигантских волн ему особенно удавалось, и перед маринами Алистратова всегда собирались почитатели. «Второй Айвазовский!» – шелестело среди них.
Эрнест Алексеевич имел привычку появляться на мероприятиях в окружении свиты. Свиту составляли две-три его бывшие натурщицы, одна-две нынешние, несколько бывших жен (это множество частично пересекалось с натурщицами), а также актуальная супруга.
Алистратов двигался, и благоухающий пестрый эскорт тек за ним. Темные бархатные глаза Эрнеста лучились удовольствием. Внешний круг образовывали ученицы Алистратова – немолодые барышни, тщетно пытавшиеся годами добиться такой же изумрудной прозрачности мазка.
Любой, кто видел Алистратова, с первого взгляда понимал: перед ним творческая личность. Что говорит нам о том, как важна роль шелкового платка в становлении художника.
Борис Касатый в некотором роде был его противоположностью. Касатова окружали не дамы, а толпа учеников. По необъяснимой причине все они выглядели как студенты театральных вузов, явившиеся пробоваться на роль Родиона Раскольникова. Высокие, худые, с воспаленными глазами под бледным челом, они затмевали собственного учителя.
Касатый был невысок ростом, носил клочковатую бородку, очки и льняные рубахи, и в целом облик его напоминал о разночинцах. Там, где Алистратов проходил в мягчайших туфлях итальянской замши, Касатый топал в грязных берцах. Неряшливостью своей он не то чтобы козырял, но умело ее использовал. «Борис Касатый – человек из народа!»
Отсюда был один шаг до определения «самородок».
И определение это звучало, звучало!
Касатый преподавал в доброй дюжине художественных школ, творил много и разнообразно и, как и Алистратов, пользовался любовью публики. А что еще ценнее – ее вниманием. Он писал морщинистых синеглазых старух, с ног до головы покрытых бабочками; писал зайцев на бесконечно длинных тонких ломких ногах, бредущих над заснеженной русской тайгой; писал гибких женщин с пушистыми одуванчиками на месте голов; писал корабли, оснащенные гигантским лебединым крылом, раздуваемым ветром…
Именно два этих заслуженных деятеля, два столпа Имперского союза и сцепились между собой в безобразной склоке. Касатый подпрыгивал, пытаясь достать до роскошной шевелюры Алистратова. Эрнест Алексеевич визжал и отмахивался подносом. Он одержал небольшую победу, ухитрившись дотянуться до очков соперника и разбить их. Вокруг драчунов были художественно разбросаны бутерброды с семгой, которые за пять минут до этого принесли на подносе.
– Руки… грязные… – выкрикивал, задыхаясь, Касатый. – Грабли свои артритные… При себе держи, скотина, бездарь, графоман от живописи! Изольду не смей трогать!
– Мерзавец! Уберите его, он бешеный… Полицию! Да зовите же…
– А-а, подлец, полицию захотел! – рвался из чужих рук Борис Игнатьевич. – А полицию нравов не хочешь, старый …?!
И приложил утонченнейшего Алистратова площадным словцом. Дамы ахнули. Смотрительница Юлия Семеновна, которая тоже в глубине души считала Алистратова распутником и сластолюбцем, тихо зааплодировала.
Но мнение смотрительницы никого не интересовало. Кроме, конечно, Сергея Бабкина, который несколькими днями позже с большим интересом выслушал от нее подробности этой безобразной грызни.
– Жалкий конъюнктурщик! – выкрикнул Алистратов. Благородство его облика было несколько утрачено в схватке. – Завистливый пачкун! Выставить к черту! Не заслуживаешь быть здесь… Ужом пробивался! Задницы лизал! Копиист паршивый, тьфу!
– У-у-у, потаскун! – взвыл Касатый.
Он вырвался наконец из державших его рук, выхватил поднос у Алистратова и этим подносом с размаху огрел соперника по уху.
Раздался дивный звон. Эрнест Алексеевич, пошатываясь, сел на стул и угодил на бутерброд с рыбой.
Как призналась позже Кулешова, она пожалела, что супруга Алистратова не осталась на празднование и, следовательно, не стала свидетельницей брошенных оскорблений. О, будь она рядом с мужем в эту тяжелую минуту, ему не удалось бы отделаться отекшим ухом. Страшно мог бы пострадать Эрнест Алексеевич. И возможно даже, что пролилась бы кровь.
А причиной всему было имя, произнесенное Касатым в начале схватки.
Изольда.
Изольда была легендой среди натурщиц. Томная, молчаливая, проплывала она мимо художников, сбрасывая одежды, и выходила на подиум во всем блеске своей античной красы. Поклонники звали Изольду ундиной. Кожа ее и в самом деле была голубовато-перламутрового оттенка, а голос манил. Воздействие его было тем сильнее, что говорила Изольда мало и редко. Так что воображение очарованных художников дорисовывало за ее молчанием бездны ума и богатства души.
Восхищение Изольдой разделяли не все. Среди женщин за ней закрепилось оскорбительное прозвище Сардина. Натурщица вряд ли об этом догадывалась. Ее мало что интересовало. Двигалась она с медлительностью улитки. Каждый взмах ее ресниц длился вечность. Вязкий мед, густое молоко, тягучий сироп – вот кто была Изольда, и в сладчайших ее объятиях жаждали погибнуть многие.
Последние месяцы Изольда позировала Борису Касатому. Он работал над монументальным полотном, в котором, помимо нагой женской фигуры, присутствовали также лошадь, голуби, четыре омара и пеликан. Под его кистью рождался шедевр.
Причина нападения на Алистратова была проста. Прекрасная Изольда, как заподозрил Касатый, дарила свою благосклонность не только ему, но и Эрнесту. Но с нее-то, бедной, что взять! Как сердиться на родник, к которому может припасть любой? Вообразить немыслимо, чтобы Борис Игнатьевич огрел ундину подносом.
А вот подлый Геростратов покусился на чужое. За что и был наказан.
– Ах, если бы Вера Степановна осталась… – мечтательно протянула Кулешова в завершение своего рассказа. – Она бы его оскопила прилюдно.
Бабкин и не подозревал такую кровожадность в кроткой музейной мыши.
– В итоге народ после этой ссоры разбрелся кто куда, – закончил он пересказ. – Группа художников во главе с Борисом Касатым уехала к некоему Ломовцеву…
– Тимофей Ломовцев, – кивнул Макар. – Я это имя уже слышал.
– …А остальные разошлись. У Ломовцева собрались… – Он достал блокнот. – Майя Куприянова, Наталья Голубцова, Борис Касатый и Павел Ульяшин. Ну, и сам Ломовцев.
– И эти пятеро мне очень интересны, – сказал Макар.
Глава 2
– У тебя нос, что ли, увеличился? – озабоченно спросил Алик и прихватил ее переносицу двумя пальцами.
Анаит вздрогнула и дернулась.
– Ты что? Больно!
За соседним столиком засмеялись подростки – над ней или о чем-то своем, Анаит не поняла, но почувствовала, что к щекам приливает жар. Она с детства легко краснела.
– Дыши глубже! – Алик рассмеялся и помахал перед ее лицом расслабленной кистью, нагоняя воздух, будто веером. – Не комплексуй. Я в том смысле – чего нос повесила?
Анаит отодвинула тарелку с салатом:
– Бурмистров возвращается завтра утром…
– Ну и что? – с набитым ртом спросил Алик.
Официант поставил перед Анаит чашку кофе. Она отпила и поморщилась: теплый, не горячий.
– Ему нужен результат. А мне нечего предъявить.
– Ну, ты сделала, что он требовал, – возразил Алик. – Не самой же тебе разыскивать его картины?
– Прошло уже два дня. Он потребует каких-то новостей, отчета о том, чего они добились. Я позвонила утром в детективное агентство, но от меня отделываются общими фразами…
Алик пожал плечами:
– Вот это ему и скажешь. Расследование только начато, рано требовать ответов. «Ждите-ответа-ждите-ответа», – вдруг гнусавым металлическим голосом проговорил он – и впрямь очень похоже на робота, и за соседним столиком снова раздались смешки. Анаит с трудом удержалась, чтобы не предложить Алику пересесть.
– Будь посмелее с Бурмистровым, – посоветовал Алик. – Тебе не хватает умения отстаивать свои границы. Честно говоря – только не обижайся! – ты пока овсяная каша на молоке. Сама провоцируешь Бурмистрова размазывать тебя по тарелке.
Анаит вскинула на него глаза.
– Алик, ты вообще представляешь, что такое Бурмистров? – тихо спросила она.
– Ну, как бы не первый год вкалываю. – Он подпустил высокомерных ноток. – И в отличие от тебя местом своим доволен.
Голубые глаза смотрят холодно: она позволила вслух усомниться, что он знает, о чем говорит. Анаит впадала в оцепенение от этого моментального переключения регистров: только что о тебе выражали заботу – и тут же внятно обозначают: не забывай, кто есть кто. Вот уж у кого, а у Алика с границами все обстоит превосходно.
Обычно Анаит сдавала назад. Мама учила никогда не ущемлять мужское самолюбие. Анаит – женщина, к тому же молодая; Алик – взрослый самостоятельный мужчина. Он опытен и знает жизнь (здесь подразумевалось: а она – нет).
– Бурмистров давит как асфальтовый каток, – тихо, но упрямо сказала она. – У нас с ним разные весовые категории. Я видела, как люди вдвое старше лебезили перед ним и заискивали. Игорь Матвеевич очень…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Это расследование описано в детективе «Лягушачий король».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов