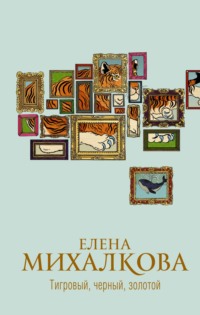
Тигровый, черный, золотой
– Нет, не дружим. Я вела у нее изостудию, а затем посоветовала ей поступать в училище с искусствоведческим отделением, где когда-то работала сама. Смею надеяться, осталась ее наставницей. Она же для меня… Знаете, у немцев есть слово, которое на русский переводится как «дитя моего сердца». Так вот, Анаит – одна из детей моего сердца. Исключительная девушка. – В голосе Мартыновой зазвучала гордость. – Одаренная, сильная, смелая. Вспыльчивая, как сто чертей! Страшно задушенная своим заботливым семейством, желающим ей, разумеется, всего самого лучшего, а также пиявицей условно мужеского пола, присосавшейся к моей красавице… Какой-то Пыжик? Жулик? Алик!.. – Она сделала небрежный жест, означавший: какая разница!
– Антонина, у вас есть идеи, кому могли понадобиться картины?
Художница страдальчески мотнула головой, словно отгоняя назойливую муху, и сердито выдернула из волос кисточку. Русые волосы рассыпались по плечам. Загорелое лицо с острыми скулами выступило из них, как из рамы, и черты его смягчились в этом окаймлении. Сергей перехватил взгляд Илюшина. Макар смотрел на женщину не отрываясь.
«Фьююююю-ить!» – длинно просвистел про себя Бабкин.
– Ни малейших идей, – твердо сказала Мартынова. – Для меня происходящее такая же загадка, как для вас.
– А мог кто-то ревновать к успеху Бурмистрова? – вклинился Сергей.
– Запросто. Та же Голубцова. Она женщина невероятной глупости – глубокой, как колодец. Но зачем ей красть картины? Это тяжело, неудобно… Гораздо проще замазать их акриловой краской.
– Почему именно акриловой?
– Акрил быстро сохнет. Масло через сутки можно счистить, если писать толстым слоем. Если тонким, то смыть разбавителем. А акрил за те же сутки застынет в камень.
Илюшин покивал, что-то обдумывая.
– Вы знаете Ренату Юханцеву?
– Лично – нет, – спокойно отозвалась Антонина. – Я видела ее работы, мне этого достаточно. Художник она посредственный, но сюжеты выстраивает мастерски. Этим и берет.
Илюшин поставил мысленную зарубку: найти картины Юханцевой. На утренней выставке их не было.
– Она очень продуманный художник, – добавила Антонина.
– А Тимофей Ломовцев?
– Талант, работяга, невообразимый лентяй, шут гороховый и большая умница, – отчеканила она, не задумываясь, словно метко забросила один за другим мячики в корзину. – Может два месяца не притрагиваться к кисти, а потом три недели вкалывать без еды и сна. О нем ходят слухи, что он работает только потому, что ему нужно обеспечивать большую семью в Саратове, но я подозреваю, что этот слух самим Тимофеем и пущен. Он вам понравится! Главное, не слушать, что он несет.
Сергей хмыкнул, несколько огорошенный такой характеристикой. Макар рассмеялся.
* * *Сторож Николай Вакулин оказался фигурой неуловимой.
Его телефон был оставлен в квартире, где никто не появлялся. На самого Николая Николаевича других номеров оформлено не было, но Сергей не сомневался, что у Вакулина имеется еще один сотовый, с которого он и связывается с друзьями.
Бабкин двинулся кругами.
Ближняя родня.
Дальняя родня.
Ближние друзья.
Дальние друзья.
Пять часов спустя список разросся до сорока фамилий.
Положение осложнялось тем, что многие были рассеяны по другим городам. Вакулин мог уехать в Тверь, Саратов, Волоколамск, Зеленоградск и Великий Новгород. Мог прятаться в деревушках под Владимиром. На то, чтобы проверить все возможные места его укрытия, ушла бы не одна неделя.
Расследование уперлось в сторожа. Сергей методично проверял всех его абонентов за неделю, предшествующую исчезновению. Но Вакулин оказался еще и невероятно общителен. Даже старенькая тетушка Сергея, любившая повторять, что женщины психологически устойчивее мужчин, потому что крепче поддерживают горизонтальные связи и не позволяют им теряться с возрастом, позавидовала бы словоохотливости музейного сторожа. Он звонил друзьям; звонил детям друзей; звонил даже бывшим одноклассникам. Сергей Бабкин не вспомнил бы собственных по именам, а Вакулин знал, когда дни рождения у их жен.
И чем дольше Бабкин его искал, тем больше уверялся, что имеет дело с человеком исключительно отзывчивым. Музейные сотрудницы были правы. К Вакулину обращались, если нужно было помочь наклеить обои или встретить на вокзале бабушку. Его окружала, точно паутина, разветвленная сеть взаимопомощи.
Осознав это, Сергей приуныл. Люди, с которыми он разговаривал, улыбались ему, говорили о «нашем добряке Коле», «Николае Николаевиче – участливой душе» и даже о «Коленьке – светлом человечке», и он не мог исключать, что участливая душа, добряк и человечек в этот момент стоит за дверью и тихо хихикает.
Сергей Бабкин был прекрасным оперативником. Кроме того, с годами у него наработалось подобие чутья, в котором он всегда отказывал самому себе. Интуиция и озарения – это у Макара, а у него – терпеливый ежедневный труд, который далеко не всегда увенчивается успехом.
Илюшин – уникум. Пришел, увидел, победил.
За самим собой Сергей не числил особенных побед. Никто не ждет великих достижений от рабочей лошади, вспахивающей поле.
Но пока ему не удавалось то, что он заслуженно числил своей сильной стороной, – найти пропавшую иголку, тщательно перебрав стог.
Илюшин выглядел на удивление спокойным. Когда Бабкин пришел к нему со своей неудачей, Макар только пожал плечами:
– Оставь Вакулина в покое. Бесполезно сосредотачиваться на его поисках – это отнимет бездну времени и может оказаться безрезультатным. По горячим следам, пока не остыли, занимаемся художниками.
* * *Итак, поздним вечером у Тимофея Ломовцева собрались:
– Майя Куприянова. Сергей запомнил ее как художницу, рисовавшую очаровательные цветы.
– Борис Касатый. Один из участников стычки, близкий приятель Ломовцева. «Зайцы над тайгой», – записал Бабкин себе в блокнот.
– Павел Ульяшин. Правая рука Ясинского и, если верить Антонине Мартыновой, жучила и ловчила. Пользуется большим авторитетом среди коллег. Если есть «золотой стандарт» художника, то это Павел Андреевич. Портреты, натюрморты, пейзажи: все выверенное, тяжеловесное, вторичное до оскомины, но именно такого рода картины покупает зритель, если хочет дома любоваться «классикой».
– Наталья Голубцова. «Вышивка», – пометил Сергей. Злоязычной Мартыновой охарактеризована как исключительно глупая женщина. «Но учтите: Наташа – одна из самых восторженных почитательниц Ясинского. Она, кажется, занимается тем, что торгует постельным бельем, то ли турецким, то ли белорусским… Именно из ее кармана оплачиваются все банкеты после выставок, например. О чем мало кто знает».
– На золотом крыльце сидели, – негромко сказал Сергей. – С кого начинаем?
Илюшин взглянул на список:
– С Куприяновой как самой молодой. Сколько ей? Тридцать три? К ней и поедем.
Глава 4
Вечером зашел Алик и объявил, что они идут гулять. Был весел, нежен, заботлив – и красив, да что там, великолепен, точно граф Сумароков-Эльстон на портрете Серова! Анаит с детства любила разглядывать это бледное лицо в альбоме репродукций великого живописца. Шептала про себя как заклинание: «Феликс Феликсович, позднее князь Юсупов…» И приблудного кота назвала Феликсом – уговорила родителей не соглашаться на Пушка или, того хуже, Паштета. Оказалась права. Драный горемыка отъелся и явил себя во всем блеске королевской красоты: серебристо-голубая шерсть, безупречная чистота манишки, а главное – взгляд! «Я вас осчастливил, мизерабли», – говорили эти желтые, как у лисы, глаза.
Свободных столиков не было, но Алик обаял метрдотеля – и место нашлось. Анаит откровенно им любовалась. Он извинился, что не дождался ее после встречи с детективами: «Вытащили срочно, пришлось ехать и разруливать одну проблему, прости, не успел даже написать!» Шутили, обсуждали сериалы, решили в выходные выбраться в Новую Третьяковку…
Вечер был бы прекрасен, если бы…
Если бы Анаит не царапало воспоминание о том, что сказала Ксения.
«Акимов составил протекцию Вакулину». А затем сторож исчез, и виноватым назначили Акимова.
Анаит несколько раз встречала Мирона Акимова на выставках. Они почти не общались, разве что перекидывались приветственными фразами. Репутация его в художественной среде была Анаит прекрасно известна: почти все сходились в том, что картины Акимова вопиюще плохи, кроме разве что Тимофея Ломовцева, непонятно отчего благоволившего художнику. За два года в Имперском союзе он не продал ни одной работы.
* * *Бурмистров утром сообщил, что сегодня в помощнице не нуждается. После этого план, который накануне только мерещился Анаит, – план неясный, смутный, лишенный всяких очертаний, – внезапно обрел плоть. Не давая себе времени на размышления, она сунула в рюкзак теплый свитер, проверила, достаточно ли заряда на телефоне, и, поколебавшись, взяла темные очки. Этот последний шаг едва не заставил ее передумать. Было в нем что-то шпионски-драматическое, детское и беспомощное… Но Анаит отогнала эти мысли.
Меньше чем за час электричка довезла ее до нужной станции. От потрескавшейся платформы вела дорога с широкой обочиной. Можно было дождаться автобуса, но Анаит, сверившись с картой, пошла пешком.
Придумана была глупость. Но Анаит говорила себе, что в худшем случае прогуляется три километра и потратится на билет в обе стороны – больше ничего.
Она старалась не слишком задумываться, быстро шагая и щурясь, когда солнечные лучи били в глаза сквозь тусклую бронзу листвы. Земля с пожухлой травой мягко проседала под подошвами. Ветер ворошил опавшие листья и нес запах дыма.
Впереди ждал не поселок, а садовое товарищество. Хорошее слово – товарищество! Где-то на одном из клочков земли была расположена акимовская дача, по совместительству – мастерская; точного адреса Анаит не знала. О Мироне Акимове вообще мало что было известно. Чудо, что она помнила название садового товарищества и нужное направление. Найти его на карте было делом нескольких минут.
«Изобильное», – говорила Наташа Голубцова. Разговор этот случился около полугода назад, после очередной выставки, на которую Мирон приволок безумную, огромную картину. «Наверное, в «Изобильном» своем намалевал, – безмятежно сказала Голубцова. – Он туда каждый день таскается как на работу».
Наталье Денисовне было за пятьдесят, но она требовала, чтобы ее называли Наташенькой. Анаит приходилось скрутить себя в узел, чтобы обратиться к этой голубоглазой полной женщине на «ты».
Наталья Денисовна сочетала в себе хищное простодушие голубя и лучистую наивность ромашки. Она и рисовала ангельских птичек и полевые цветы на закате, смело пренебрегая правилами перспективы, светотени, композиции и прочими ограничениями, что ставят скудные умы перед истинным вдохновением.
Однако и Голубцова ненароком могла принести пользу. Она ухитрялась быть в курсе всех событий: перевалочная база для сплетен, кочевавших от группы к группе.
Пожалуй, не так она была проста, как хотела казаться. Ксения, музейщица, отчего-то терпеть ее не могла. Какая-то у них однажды вышла стычка… До Анаит донеслись лишь отголоски пересудов, а сама Ксения на эту тему словом не обмолвилась.
Навстречу Анаит прошла немолодая женщина с рюкзаком и корзинкой в руке. В корзинке светились прозрачной веснушчатой желтизной крупные яблоки.
– На, угостись, – сказала женщина как старой знакомой и сунула ей плод.
Один бок у яблока был холодный, а другой теплый, словно нагретый теми, что лежали внизу.
Анаит благодарно улыбнулась. Запоздало спохватилась через несколько шагов: вот у кого бы спросить, где дача Акимова! «Нет, не надо. Она может рассказать, что какая-то девушка им интересовалась».
Анаит пока нельзя обнаруживать своего интереса.
Качающийся мостик ее логического умозаключения держался на шатких опорах предположений. Пока что не было подтверждено даже первое из них. Анаит прошла в распахнутые ворота мимо будки охранника. Единственным, кто заинтересовался ею, был косматый грязно-белый пес. Анаит безбоязненно потрепала его по холке и огляделась.
Неподалеку на участках жгли костры. Светло-серые столбы поднимались в воздух. Ее обогнала стайка детей, кто в куртках, кто в шортах. Проехали две машины… Уже знакомый грязно-белый пес пробежал мимо. Ветер нес пыль, листья и запах дыма, плотный до осязаемости. У Анаит заслезились глаза. Она надела солнечные очки, чувствуя себя неловко. Интересно, помнит ли Акимов ее лицо? Он никогда не обращал на нее внимания.
Дым сменился запахом подгоревшего шашлыка. То окрики, то смех, то просто разговоры доносились до Анаит: садовое товарищество производило впечатление места густо и тесно населенного. Откуда-то дохнуло жареной рыбой с луком. Анаит шла медленно, заглядывая за заборы. Она надеялась, что шестое чувство подскажет, где дача Акимова. Мирон должен был построить что-то особенное, отличающееся от соседских развалюх…
Шестое чувство молчало.
Она вышла на площадку, обсаженную рябинами. Под ними на траве расселись те самые дети, что обогнали ее. На противоположной стороне улицы Анаит увидела бревенчатый лабаз с зарешеченными окнами и вывеской: «Продукты».
Это был край «Изобильного». Конец пути.
Анаит уже поняла, что никакого проку от ее поездки не будет. Нужно было придать своему пребыванию здесь хотя бы видимость смысла. Купить что-то на память. Она пыталась вспомнить расписание электричек, когда на крыльцо из дверей вывалились, подталкивая друг друга, трое мужчин. Все трое были немолоды, пузаты и расхристаны. Один споткнулся на ступеньках, едва удержавшись на ногах, и в сумке отчетливо зазвенело.
– Коля, не сметь! – веселым пьяным голосом прикрикнул один.
– А если бы он нес п-п-патроны! – добавил идущий следом, прихватив для страховки товарища за сумку.
И вдруг Анаит поняла, что перед ней пропавший сторож музея. Николай Николаевич Вакулин. Она так привыкла видеть услужливое бледное лицо, что не опознала его в этом развеселом пьянице.
Она быстро сбросила рюкзак с плеча и принялась для виду что-то искать в нем, но Вакулину было не до нее. Троица прошла в двух шагах от девушки и свернула в проход между участками.
Анаит несколько секунд смотрела им вслед. Теперь, когда первая опора оказалась прочно укрепленной в земле, она почувствовала себя уверенно.
Можно тянуть мостик дальше.
Анаит поднялась по ступенькам и зашла в магазин. Внутри было прохладно и безлюдно. Только продавщица в спортивном костюме расставляла на стенде сигаретные пачки.
Анаит выбрала два «киндер-сюрприза» и положила на ленту.
– Скажите, а это не дядя Коля сейчас к вам заходил? – спросила она, расплатившись и как будто вдруг что-то вспомнив. – Я издалека не разглядела.
– Это кто такой? – раздраженно спросила продавщица, пытаясь впихнуть пачку «Золотой Явы» на отведенное ей место.
Анаит понаблюдала несколько секунд, затем молча вынула из ее пухлых пальцев «Яву» и одним ловким движением вставила в нужный кармашек.
– Ох ты! – уважительно сказала продавщица. – Как всю жизнь училась!
Анаит про себя усмехнулась. То-то рады были бы ее педагоги на искусствоведческом такому комплименту.
– Кого ищешь-то?
– У родителей есть знакомый, Николай Николаевич. Мне показалось, я увидела его издалека. Не пойму, обозналась или нет. Рыхлый, плечи покатые, лицо круглое.
– А, вон ты о ком! Он вроде не живет, а гостит. Я его третий день здесь вижу, каждый раз с Василием и братом его. Отмечают чего-то!
– А у кого гостит? – спросила Анаит, подпустив дозу поверхностного любопытства: обычная девушка, раздумывающая, сходить ли поздороваться с давним другом семьи.
Она не ждала ответа и вздрогнула, услышав, как спокойно женщина произносит знакомое имя.
– У Акимова. Знаешь, где он живет?
Десять минут спустя Анаит с бьющимся сердцем стояла перед неприметным домом за невысоким палисадом.
От соседних этот участок отличали неухоженность и отсутствие площадки для машины. За калиткой к дому тянулась дорожка, которую обступал запущенный сад. Кустарники со спутавшимися колтунами ветвей; грозная, выше крыши, темная ель, похожая на безумную тощую старуху в рваной юбке; одичавшие сливы… Даже залитый полуденным солнцем, сад был сумрачен и байронически прекрасен. Соседские участки сверкали идеально ровными пустыми газонами, как красавица искусственными зубами.
Итак, она была права. Едва услышав, чьим протеже являлся Николай Николаевич, Анаит сложила два и два: исчезновение картин Бурмистрова и последующее бегство сторожа. На чье преступление он мог закрыть глаза? Того, кто помог ему с работой. Где он мог укрыться от неприятных расспросов полиции? У него же.
Так и произошло. Вакулин обосновался на даче Акимова и, найдя себе двух компаньонов, ушел в загул.
А все Ясинский, змей-искуситель! Поманил галереей в Амстердаме. Соблазнил малых сих. Вернее, одного малого, предположившего, что в отсутствие двух полотен, которые должны были отправляться за границу, выберут чьи-нибудь другие. И у кого же больше шансов, как не у чрезвычайно самобытного художника Мирона Акимова?
«Так он и рассуждал, – думала Анаит. – Украл картины, подбив Вакулина помочь. Когда начался переполох, сторож не захотел отвечать – и удрал. Спрятался здесь».
Голубцова утверждала, что у Акимова на даче устроена мастерская. Где прятать украденные полотна, как не среди своих собственных? Вряд ли он их уничтожил. Хотелось надеяться, что не тот человек Мирон Акимов, чтобы у него поднялась рука на произведения товарища по цеху.
Анаит огляделась. Улица была пуста.
«Я ведь за этим сюда и приехала».
Бурмистров найдет способ добраться до Акимова, едва сопоставит факты, как это сделала она. Частные детективы принесут ему их на блюдечке. Он наймет людей, которые перевернут мастерскую вверх дном. А когда отыщет свои картины…
Откинув щеколду, Анаит вошла и закрыла за собой калитку. Очки сунула в карман – теперь они только мешали.
Мирон весь день на работе. Вернется вечером, если и вовсе не останется в городской квартире. А сторож празднует с новообретенными приятелями свободу.
Оставалось лишь одно затруднение.
Никто не видел ее, когда она прошла по тропе, раздвигая еловые ветви. Странно, что Акимов не обкорнал эти лапы, протянувшиеся на тропинку… Прикосновение их было прохладным и живым, точно слепец деликатно пробежал пальцами по незнакомому гостю. Анаит обогнула жасминовый куст, поднялась на крыльцо и подергала дверь.
Закрыто.
Так, что вокруг? Трава и кусты. Ни камня, ни ведерка, ни горшка с цветком… Есть нехитрая скамейка из двух обрубков и брошенной на них доски, но и под ней ничего, кроме жуков. Ну же, Мирон Иванович! Твоя старая дача никому не нужна: ни денег, ни техники – да что там, у тебя и телевизора-то наверняка нет. К чему возить с собой связку ключей, когда у тебя живет приятель? Нет, вы будете прятать ключ где-то поблизости, чтобы тот, кто вернется первым, мог попасть в дом…
Она потыкала носком ботинка траву. Поискала вдоль стены. Проверила под подоконником. Ключа не было. Анаит закусила губу и посмотрела на окно. Старые двойные рамы; решеток нет, но звук разбившегося стекла могут услышать соседи…
Еловые ветки едва покачивались. В глубине дерева, ближе к вершине, пересвистывалась стайка мелких птиц. Шелест, шорох, писк, почти неуловимое движение вверх по стволу… А ведь там их много, подумала Анаит, намного больше, чем кажется.
Вернулась к ели, обошла ее, приглядываясь, и под одной из ветвей, почти не удивившись, увидела привязанный на шерстяной зеленой нитке простой ключ, поблескивавший, словно новогодняя игрушка. Ее охватило торжество.
Она взбежала на крыльцо, провернула ключ в замочной скважине и толкнула дверь. Внутри вместо ожидаемого бардака – груды заношенных ботинок, прокуренных курток, дохлых мух ожерельями возле пустых бутылок на подоконниках, – ее встретил такой спокойный порядок, что в первый момент она испугалась, что ошиблась дачей. В некотором смысле дом был антитезой саду.
Полки до потолка: внизу обувь, вверху инструменты. Полосатая ковровая дорожка. Анаит поразил строгий, почти аскетичный облик комнаты, в которую она вошла. Печка, топчан, обеденный стол у окна, не больше дюжины книг… Чайная чашка на столе приковывала к себе взгляд: бледно-лиловые фиалки на размытом зеленом фоне, тончайший обруч золота по краю; предмет в этой комнате невообразимый, точно бабочка в шахте, – несомненно, подарок женщины.
За окном проехала машина, и Анаит вспомнила, зачем пришла. Поставив рюкзак на пол, она проверила на телефоне, есть ли связь. Важный пункт плана: когда она отыщет картины, надо будет вызвать такси из ближайшего поселка. Самой ей не дотащить ни «Тигров», ни «Владыку мира».
Коридор с дверью в кладовую. Крохотная кухня с побеленными стенами. Еще одна комнатка, узкая, точно келья, с неровно вздувшимся на полу матрасом: очевидно, здесь обретался по ночам Николай Николаевич. Мастерская была в конце коридора, выходила окнами на лес. Здесь порядок заканчивался. Мольберты, подрамники, готовые картины, наваленная грудой мешковина, какие-то свертки, грязные палитры, бутыли вдоль стены – и над всем этим витает крепкий запах лака с растворителем. На подоконнике торчат щетиной вверх кисти, воткнутые в зеленый брус флористической губки.
Анаит осмотрела все картины в мастерской и разочарованно застыла посреди комнаты. «Владыки» и «Тигров» не было. Мост оборвался, не дотянувшись до берега.
Неужели Акимов оставил их в городской квартире? Тогда все ее безрассудство было напрасным.
Она вновь обыскала дом. Распахнула створки единственного шкафа, разворошила зимние куртки и лыжные штаны. Изучила каждую картину, осмотрела рамы – не мелькнет ли знакомая.
Ничего.
Анаит вернулась в коридор, вскинула рюкзак. Сейчас, когда она потерпела такой сокрушительный удар, он казался втрое тяжелее. Бессмысленность всех предпринятых ею шагов давила на плечи.
В последний момент ее взгляд остановился на темной, вглубь уходящей норе коридора. Заканчивалась эта нора мастерской. Слева – спальня с кухней, справа – чулан… Вернее, дверь в чулан, потому что внутрь Анаит не сунулась, представив, что увидит: шмотки, банки, краски и ящик водки. Почему водки? Акимов, кажется, не пьет.
Анаит подошла и для очистки совести толкнула дверь. Та не открылась. В полусумраке она рассмотрела, что снаружи на ней установлен простейший засов, какой обычно ставят на деревенских калитках.
Еще страннее! Первая мысль – не прячет ли там Акимов кого-нибудь? «Что, собственно, мы знаем об Акимове?» – спросила себя Анаит. Очень мало, почти ничего.
Рыжий, хмурый. Немногословный. Происходит из творческой семьи: и отец, и дядя – художники, признанные, в отличие от него. Имеет прочную репутацию неудачника. Трудится инженером-электриком на каком-то заводе. Начал писать только после сорока. Держится особняком. Сообщество отторгало Акимова, словно представителя чужого вида. Только Тима Ломовцев признает и принимает его, да и вообще относится к Акимову со странной насмешливой нежностью. Ну так это же Ломовцев! Анаит его стеснялась и, по правде говоря, побаивалась. В развеселом хулигане Ломовцеве, бабнике и дамском угоднике, временами проглядывал козлоногий сатир, бил копытом и косил на Анаит ярким зеленым глазом. В его присутствии на нее нападали стыдливость и немота.
Анаит откинула щеколду, включила фонарик на телефоне и посветила внутрь.
Если это и был чулан, то просторный, едва ли не больше спальни с матрасом на полу. Луч обежал пространство и замер, уткнувшись, как поисковая собака, в повернутую к стене картину в дорогой золотой раме, за которой просматривались еще холсты.
– Наконец-то!
Анаит подбежала к картине, попыталась перевернуть ее, выронила телефон и впопыхах бросилась к выключателю. У телефона треснула задняя панель, но даже это не могло ее сейчас огорчить. Щелчок – и зажглась лампа под потолком.
Где-то с силой хлопнула от ветра форточка. На глазах Анаит приоткрытая дверь чулана мягко затворилась, и снаружи что-то звякнуло.
В следующий миг, похолодев от ужаса, она поняла, что это был за звук.
«Щеколда».
Она толкнула дверь, но ничего не вышло. Анаит оставила щеколду приподнятой, и теперь та прочно удерживала ее взаперти.
Колотиться в обшивку бесполезно. Анаит соображала быстро и хладнокровно. «Входную дверь я точно не запирала. Позвонить таксисту, когда он подъедет, попросить зайти, освободить меня – и уехать с картинами. Все будет нормально, не паникуем».
Но, подняв телефон, она увидела, что повреждения куда серьезнее, чем ей показалось на первый взгляд. Корпус был разбит с обеих сторон. На прикосновения сенсорный экран не отзывался.
Не меньше десяти минут Анаит терпеливо пыталась пробиться через мертвый мобильник.
В конце концов ей пришлось признать, что она лишена связи.
Комната без окон, с единственной дверью, запертой снаружи, и у нее нет возможности позвонить. Трезво оценив ситуацию, Анаит поняла, что пора впадать в панику.

