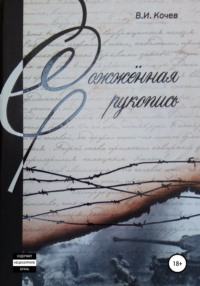
Сожженная рукопись
Починённую им обувь я, нагрузив в сетку, взваливал на спину и разносил по соседям. Наш двор состоял из трёхэтажного дома, четырёх двухэтажных коттеджей и нашего барака. Это были новые строения. Их называли опытными. Дома будущего: коммунальные многоэтажки – для трудящихся, там общая кухня-столовая, и баня-прачечная. А коттеджи с земельными участками – для руководителей. А барак наш – временный, не в счет. Но пока все эти жилища были заселены плотно и не по тем правилам. Тут жили в основном интеллигентные семьи, женщины-матери со своими детьми. Очевидно, все они откуда-то приехали. Но где были их мужья-отцы? У меня этот вопрос тогда не возникал. Позже я узнал, что почти все эти интеллигентные семейства были сосланы сюда. А их арестованные отцы, мужья были неизвестно где.
Помню, в одной из комнат коттеджа жило большое семейство. Главными были там маститый старик и манерная бабушка. Она часто вставляла в свою речь непонятные слова. Как я позже узнал, это были французские изречения. Удивительно вели они себя: и достойно, и доброжелательно. Не обидно было получить от них и скромную плату. Бабушка хвалила меня за трудолюбие. Ещё у них жила старая добрая домработница, а может быть и родственница. Она обычно спала или сидела на своём сундуке и крутила шарманку. Как я после узнал, это была кофемолка. А старик всегда ходил в старых валенках с обрезанными моим отцом голенищами. Каждый раз, когда я уходил, он провожал меня, как равного. Сдвинув пятки этих обрезанных валенок, делал короткий кивок головой.
Мало-помалу находилась и собиралась наша родня. С Изоплита приходил мой дедушка. Мы звали его дёдо. Он был, как говорили в деревне, могутный, и с чёрной бородой. А глаза у него, как у моего папки, были жгучие с доброй искринкой. Он всегда где-то добывал два яблочка и вручал нам этот гостинец. Иногда мы ходили на кладбище к нашей бабушке Доминике Тихоновне. Она давно умерла, говорят, не вынесла горя раскулачивания, потерю хозяйства. Дёдо и папка у могилки молчали. Но в жизни дед был сильный. Казалось, его не задело горе. Шестьдесят семь лет, а голова чёрная, лишь по бороде пробежала струйка седины.
Мой папка жадно жил и трудился, всё умел делать. Однажды получил премию, с зарплатой у него получилась тысяча рублей. Это по тем временам большие деньги – двойной заработок хорошего рабочего. Он снова балагурил – раскидал все эти деньги, полученные мелкой купюрой, по полу. И мы ждали прихода мамы. Она, всплеснув руками от удивления, начала их быстро собирать. С этой похвальной премии папка купил фотоапарат «фотокор», научился фотографировать. В воскресенье он меня «снимал». Ставил треногу, прятал голову в черное покрывало, а правой рукой нажимал на кнопку шнура. А мне надо было глядеть в объектив, не шевелиться, не дышать и улыбаться, пока он считает до пяти.
Летом тридцать седьмого года у нас был праздник: приехал дядя Андрей. Говорили, что он закончил курсы механиков и сейчас будет работать на обувной фабрике, где и папка мой. С ним его товарищ дядя Семён. Мне они оба понравились. Только они разные. Дядя Андрей на месте не сидит. Мама говорит, Онька на месте дыру вертит. А дядя Сёма как сел, так и говорил с моим папкой. Они немножко выпивали за встречу. Сёма сало любит, и отец мой тоже. Семён родом с Украины, а отец мой в тех краях воевал. Настоящее засолённое сало должно быть толстое – в ладонь, и с синевой, понял я из их разговоров. Я тоже ел вместе с ними. Мне нравилось всё то же, что и папке. «А почему Сёма любит сало, а ты нет?» – спросил я дядю Андрея.
«Сёмка хохол, а я кацап», – со смешком ответил он.
«Хохол, кацап, а кто это такие?» – после спрашивал я отца.
«Слова: хохол, кацап, жид, вотяк, татарин – говорить нельзя», – строго предупредил меня отец.
«А как же их звать?», – недоумевал я.
«Называть можно – товарищ нацмен, а ты зови всех просто по имени. Все люди одинаковые, хорошие. Только есть и плохие. С хорошим дружи, от плохого отходи, будь он, хоть русский, хоть нерусский». Так наставлял, меня отец.
К бабушке в деревню
Здравствуй, милая деревня,
Родниковая моя,
Я твой пёс, товарищ верный,
Вспомни грешного меня.
1937 год начинался счастливо. Летом мы все поехали в деревню к бабе Марфе – маме старой. Здесь всё не так, как в городе. Солнце большое и поля без края и река без конца и дома деревянные. Оттого и деревней называется, догадался я. А заборы – плетни, потому что плетут их из веток. А солновороты – это подсолнухи. Растут под солнцем, и голову к нему поворачивают, греются. А гуси и телята – все делом заняты, травку щиплют. Куры зёрнышки клюют. Только свинья лежит в жидкой грязи, хрюкает, ничего не делают. И собаки добрые играют с нами.
Мы шли по деревне нарядные: папка в костюме при галстуке, как инженер, через плечо – «фотокор». Мама – в городском платье, фигуру облегает, и, как дама, с ридикюлем. И мы с сестрой нарядные: она в матроске, а я, – в морском бушлатике, а на голове испанка. И ещё на мне был подвешен барабан, а в руках – барабанные палочки. Всю одежду эту мама шила сама, только костюм свой папка поштучно купил, он хоть не новый, но хорошо отглаженный. Но об этом никто и не знал. А Андрюша и вовсе одет, как физкультурник на параде – в белых брюках и белой рубашке, и весь он, не ходил, словно летал. Мы шли и радовались. С нами здоровались, удивлялись и тоже радовались. Но кто-то, завидев нас, хмурился, отходил от окна, пропадал в своём огороде.
«Фуй, какой большой!» – радостно ойкнул какой-то дед в войлочной шляпе, продираясь сквозь подсолнухи. Он наклонился над кружевным плетнём и заговорил, окая и нараспев. Никого и ничего я не помнил, но чувствовал, что возвращаюсь, будто здесь уже жил. Ушло, укатилось то время, и давно уж нет того дедушки, но кружевной плетень, который сварганил он, стоит до сих пор, напоминая то мгновение.
Подходя к дому бабушки, папка сказал: «Играй». И я забарабанил: «Старый барабанщик, старый барабанщик крепко, крепко, крепко спал. Вдруг проснулся, перевернулся и ударил в барабан».
И вот из избы нам навстречу торопливо идёт бабушка. Это моя мама стара. На ходу трет фартуком глаза. Она смеётся и плачет. «Ой, лико, Вова в бубен бьёт», – подходя, приговаривает она. Бессильно повисла на шее своего долгожданного сына Оньки.
Подбежала, радостно улыбаясь, крепкая девица: это моя тётя Катя. Подскочила, всех, растолкав, глазастая девчонка. «Шшоки» толстеньки, на голове «копна», это – Любка.
А из-за спины мамы стары выглядывала девчонка, неуверенно глядя на нас. Отец подошёл к ней, прижал своей большой ладонью, и она немного обмякла. «Родная кровь, родная кровь», – повторял он, гладя её. Это оказалась моя старшая сестра от первого брака отца, Настя. Я её увидел впервые.
Мама стара всё ещё стояла на том же месте, не отходя от Оньки. Тихо причитала не то от радости, не то от горя. Вспомнила тятю их родимого, не дожившего до столь великой радости. Андрюша как-то затих, сделался маленьким.
К вечеру пришёл ещё один член семейства мамы стары – Гришка. Ему ещё не минуло тринадцати, но он уже вовсю «мантулил» в колхозе, робил на «лошаде». Он как мужик, как равный серьёзно со всеми поздоровался.
Изба в одну комнату всех впустила в себя, всем нашлось место за общим столом. Всем нашлась ложка, чтоб похлебать из общего блюда. И второй день прошёл как во сне. Все будто вспоминали вчерашний день, ушедшее время. Все мы приехали в свою деревню после раскулачивания впервые.
Дядя Андрюша (Онька) вернулся домой
Андрей ходил молча по окрестностям, будто искал кого-то. Он искал вчерашний день, собирал силы для жизни. Поле сухое разлеглось от неба до неба. Ори, сколь хошь, освобождайся от тяжести. С краю лесок кудрявый – зовёт в гости, как в дом родной. Дружные гуси, телята с добрыми глазами будто не уходили с тех пор. Только люди те хорошие остались в том времени. Тальник с печалью глядел на реку, отчего-то говорливую, весёлую. Андрей сидел на берегу, мысленно разговаривая с ней. А вода текла по-прежнему, как и тогда, помимо нашей воли, неотвратимо, как время.
Поздно уж было. Шёл и думал, думал Онька об этой вечной неровной жизни. Куда бы ни выталкивала судьба, а лучше деревни родной нет на всём белом свете. Родина – то, что любишь с детства.
Вот дом знакомый задержал его шаг. Захотелось заглянуть в него. А прошёл, не остановился. Угрюмый, как с похмелья хозяин стоял в окне. Жила тут раньше девчушка, с братом её дружили, во всей деревне верховодили. Отчего-то сосчитал, сколько ей лет. Восемнадцать уж. Смешные эти девчонки-подростки. А она уж тогда уважение вызывала. Никто не мог её обидеть, рука не поднималась. Кто первый раз её видел, замирал на месте. А глазами поведёт и встретятся взгляды – весь день хорошо. Онька представил, какова же она сейчас. Да нет их здесь, не вернулись. Приписано им спецпоселение.
Особый народ эти девки, не задумываются, что да как. Увидели гостей в деревне, разнарядились, поют да приплясывают. А праздника вроде и нет. Радуются звонче колокольчика, а веселиться-то с чего? Но, как жеребчик на табун лошадок, косился он на них. Так и шёл, всё передумывая. Остатки тепла отдавало лето, успевай, радуйся. Полевыми цветками красовались девицы в этом букете. Только не настало время для выбора. Где-то высоко в мыслях виделся неясный образ её. А смелые девчата наперебой распевали:
Ягодиночка на льдиночке, а я на берегу, перебрось, боля, тростиночку, к тебе перебегу. Неужели это я с дороженьки сбиваюся, неужели это я кого люблю, лишаюся?
Где с милёночком свыкались, тут цветочки расцвели, где с фартовым расставались, ручеёчки протекли.
Смелый да фартовый был Онька, но скромный да деликатный. С сожалением провожали они взглядом городского хулигана в модных брюках. А вечером на полу заснул Онька так сладко, как мечтал.
Утром рано-рано мать уж хлопотала у печи. Хлебный дух радовал.
Дядя Гришка, тётка Любка
Смешной курносый Гришка ненамного был старше меня, но уже считал себя мужиком. И всё делал, как они. И баба Марфа почитала его за хозяина. Он трудодни зарабливал, а значит, и хлеб. В воскресенье, обнявшись с товарищем, они ходили по деревне пошатываясь, будто «выпимши», распевая частушки, как это делали в праздники молодые мужики:
Мы с товаришшом вдвоём, Не надо нам единого, А без товаришша один, Головушка погинула.
При слове «погинула» надо было, сокрушаясь, крутить головой. Но к вечеру Гришка забывал, что он взрослый мужик. Вместе с нами бесился, дурил. Широкая улица в конце деревни будто покрыта ковром – поросла конотопом. Здесь собирались все вместе и ребята, и телята, и петухи, и собаки, и бараны. Гришка ловко играл во все игры – и в лапту, и в бабки, и чугунную жопу. И ребята, и животные все были добрые. Но один баран мешал нам играть. Нет-нет, да налетит на кого-нибудь сзади. Ладно, рога колечком. И Гришка его проучил. Посерёдке улицы стоял столб, в праздники устраивали тут качули. Натравив этого дурного барана, Гришка убегал от него, но перед столбом резко отскакивал в сторону. А баран, не останавливаясь, бился рогами в столб. И так повторялось каждый раз. Понял я пословицу: «упрямый, как баран». А упрямый – значит и глупый.
Гришка во всём был весёлый. Помню, девчонки о чём-то поспорили с ним, он не соглашался. «Скажи честное пионерское, если не врёшь», – настаивали они. При этом надо было сделать салют, приложив ребро ладони ко лбу, сказать: «Честное ленинское». И Гришка поклялся, но по-своему. «Блядь буду», – сказал он, при этом щелкнул ногтём, зацепив за зуб, и провёл ладонью по горлу. Девчонки засмущались и разбежались. А я остался, мне Гришка нравился.
А к ночи он занимал нас сказками. Он их наслушался, когда ещё маленьким в детскую колонию попал. Вся ребятня спала на полатях, кто на чём. Тут можно было дурить, и никто не счувал. Но когда темнело и Гришка начинал сказку, все умолкали. Одной такой истории хватало до ночи. Все то замирали от страху, то прыскали со смеху. Мы спали под одной окуткой – не боязно. Его простоватый с виду Иванушка оказывался «доброй, удалой, да справедливой». А в конце завсегда оставался «живой, счастливой да с невестой писаной красавицой».
А в тот момент, когда самое интересное в сказке было, бедовая Любка по-своему дурила. Бзнет в ладошку и поднесет кому-нибудь под нос. Вот крику-то было, но не дрались. А ещё лучше она упакивала. Назюзится с вечера молока, а утром встают с Наташкой обе мокрые. Они в обнимку с ней спали.
Но скоро её проказы забывались. Тётка Любка была последняя в семье, её больше всех жалели. А днём мы с ней скакали по полянке лошадками и, что есть мочи, кричали: «Бриття, бриття, бриття, тя». Потом Любка вела нас в свои сладкие места на огород. Там росли по обочинам собачьи ягоды. Взрослые их почему-то не ели. И пока мы страдовали, она зачем-то забегала в чулан, а, выходя, облизывалась. Вот так мы перед паужной портили «выть».
«Алакши, айдате ись», – звали нас к столу. На столе уж нарезан хлеб горкой, и против каждого места – деревянная ложка. Мама стара поставила блюдо с окрошкой. В жару это самая нужная еда. Я уже знал – в деревне все из одной чашки хлебают. И в избе деревенской стол – престол. И сидеть за ним надо степенно, и чтоб не рот за ложкой, а ложка за ртом. Да чтоб с ложки не капало – хлебушек под неё подставляй. А если до мяса дело дошло, так вперёд не лезь. Вкусное да сладкое все враз едят, да неспешно. Пока все сидели, ждали: мама стара пошла в чулан за сметаной. Её здесь сами делали. Отстоится в кринке молоко, сливки снимают, на сметану копят всю неделю.
«Не хощу я твоёво квасу», – вдруг взъерепенилась Любка и выскочила из-за стола. Причина её каприза выявилась, когда мама стара вернулась из чулана с пустой кринкой.
«Покась ека, крыношна блудниса», – ворчала она. Что ж, пришлось есть окрошку без сметаны, которую Любка давно уж вылизала. Вот почему она забегала в чулан, а после облизывалась.
Но ничего, напоследок хозяйка выставила главное угощение – мёд. Не едал я ещё пчелиных конфет, да много и не съешь – сладок больно этот мёд.
Незаметно подсела и Любка и заерепенилась: «А чо, Катерине-то боле, мне-то мене». И зауросила.
«На, я не хочу», – отдала свою долю Катя. Любка весело всё съела.
«Прокукситса, просситса, опеть за своё», – сетовала, мама стара. Но Любку круто-накруто не счували. Она была последняя из семерых детей в семье. И время ей досталось злое. Вот вся жалость и досталась ей. И «находила» она на своего «баскова» тятю. Если чо подсобить, али прибраться, – на то Катерина есть. А Любка, «покась ека», в это время весело скакала. Робятам потеха, матери докука.
Сродный прадедушка и добрые тётки жили неподалёку. Но мы шли к ним в гости, принарядившись. И дедушка по такому случаю надевал праздничные пимы. Они были когда-то белые, вышиты красным гарусом. Теперь всё это слилось в один тёмно-серый цвет. И дедушка уже плохо слышал. А тётки говорили, что певун он был. Что ране, в добры времена, собирались свояки да проголосно пели, так, будто разговор промеж себя вели.
А сейчас вот Любка да Наташа у него в гостях пели да танцевали. В городе-то Наташа стеснялась – бородавки на руках. Она обычно стояла, смотрела, спрятав за спину руки. А здесь мама стара свела их, вывела. Завязала узелок на бородавке, пошептала и бросила ту нитку под пяту двери.
Наташа танцевала по-городскому, Любаша по-своему. Тётки хлопали в ладоши, улыбались. Глухонемая тётя Маня шибче всех радела, махала пальцами, по-доброму морщилась лицом. Но Любка снова завела бузу: «Наташку боле хвалили». Начала дразниться, плеваться. Тётки увещёвали её, но строптивая гостья не унималась. И тогда добрый дед осердился: «Ты, шкура, изыди, я с тобой грешить не стану».
Тётки кинулись, было за ней, а дед послал ещё и вдогонку: «Пущай побегат, посерет на пятки, прокукситса – меньше ссит». Дед был самый старший и наущал молодых: «Учи дитё, пока поперёк лавки лежит, сичас ерепенитса, после куражится да измываться зачнет». Но Любка «покась ека» была последняя в семье, ей всё прощалось, такой она и осталась. Безобидные детские капризы переросли в эгоизм.
Баня в деревне, плешшись да плешшись
Церковь душу облегчает,
Баня тешит твою плоть.
А в субботу тётки топили баню. О бузе, которую учинила Любка, никто уж и не помнил. Девчонки вышли с мокрыми волосами и, как тётеньки, важно пошли к деду пить с мёдом чай. А меня, не спрашивая, затолкнули в предбанник, сдернули короткие городские штанки. Не успев подумать, я очутился в парной. Там было жарко, мокро, окошко с ладошку. Огляделся. Тётки чему-то радовались, гоготали. Да это вроде были и не они, совсем без всего. Я смотрел снизу вверх на добрых, весёлых, великолепных животных. Тугие формы, исполненные по законам гармонии, были для меня бесполы. Наверное, это дар ребёнка – оценивать беспристрастно совершенство природы. После мы смотрим на женщину как на противоположный пол. Но мне недавно стукнуло семь лет, и я уже что-то начинал понимать. Быстро прикрыл кутьку. А в ответ они веселей да громче загоготали: «А ты и жопку прикрой!» Что я и сделал другой ладошкой. Весёлый хохот не кончался. Да, баня в деревне – это праздник. Меня, чумазого, окатили, помыли голову мыльной золой, окатили ещё раз, поцеловали и вытолкнули. После деревенской бани всё по-другому кажется: солнышко ярче, небо голубее, трава зеленее, воздух вкуснее.
«Баня да церковь – две благости, одна телеса правит, друга душу осветлят», – говорила сродная бабушка.
Любка сидела за столом смирно, не куражилась, с опаской поглядывая на строгого деда. А тётки весело вспоминали, как мой папка балагурил. Баню топили по очереди, и приглашали соседей свояков. Я родяшший был. До бани меня надо было нести по деревне. Но мужик с ребёночком на руках – это всё равно что баба. Тетюнькаться с робятёшками – не мужицкое дело. А в бане уже ждала меня моя мама. И отец пронёс меня по людной улице, но так, что никто не заметил. Мать протянула руки из предбанника, чтобы принять кагоньку, а отец подаёт ей саквояж. «Ты чо пелекуешша, робенка давай!» – кричит она. «А ты его уж держишь», – отвечал, смеясь, отец. Так отец шутил, а это было незадолго после горя – раскулачивания.
Баба Марфа – мама стара
Светлеет женщина под старость,
Красивше нету бабушки своей.
День в деревне скорее пробегает. К ночи, набегавшись, я засыпал, как пропастинка, досматривая Гришкин сказ. Просыпался от вкусного тёплого запаха.
«Утре шаньги с налёвом заведу, – обещала мама стара с вечера. – А то и блины пред пылом, толькё успевай вытаскивай – на семь ртов хватит. А квашня на три передела уж поднялась. Гостей потчевать надо. Зимой, быват, и похлёбку забелить нечем, шелуху едим, до весны доживам, просянку варим. Горе перемелется, а празднику радуйся».
Вот и котёнка для потехи оставили. «Ишь, чо делают, норовистые».
«Эй, алакши», – снова зовут нас в паужну к столу.
«Не таскай куски, не порти выть», – счували нас. Зато сейчас едим – за ушами трещит.
Едим, да каждый раз на удивленье: верещага, то кулага, повалиха, то толча. Проста да вкусная еда. А на верхосытку у мамы стары есть и сладеньки парёнки.
Сама мама стара не ела с нами, а «толькё» доедала: в паужну – утрешно, вечером – что осталось от дня. А утре ишо не наробилась, не промялась. И когда она спала, тоже никто не видел. «Легла полежать, без закутки уснула».
Как говорят в деревне – язык у неё не «прикрытый».
«Мама стара, а как это бычка подкладывают?»
«Еиса обрезают».
«Где это моя аракчинка?»
«Да вон, под жопой у Любки».
С глазами неладно – «тряпису с робячьим ссесом приложи». А от другой болести надо было «толстосери» на драть. Работы по хозяйству хватало. А ишо говорили, что баба Марфа всё умеет. И робёночка принимать, и от лихорадки вылечивать: «Как зачнёт трясти, лихорадить знобить – в пролубь с головой окунись и вылезешь здоровенькой».
А ишо баба Марфа робила в промогороде. Я отправлялся с ней в лесочек «зарабливать» трудодни. Густые заросли тальника тянулись по низинам, вдоль реки. Острым ножиком она срезала вицы. Затем, поплевав в ладони, впрягалась в тележку, и её босые ноги шагали по любой траве. Сняв сандалии, я тоже попытался ступать на скошенную траву, но тут же поднял ногу. Травинки, словно палки, зло кололи. «Городским надо в обувке ходить», – поучала меня бабушка.
По дороге у нас случилось ещё одно происшествие. Я увидел змею, переползавшую через тропинку. Змея-медянка – это самая вредная гадюка, гадина, знал я, и наступил на неё, пытаясь раздавить. Но она издала истошный звук. Оказывается, змеи тоже говорят. Нога моя машинально отдернулась. Змея уползла. «От зла лучше отойти», – снова поучала меня бабушка.
Мама стара сноровисто напластала веток и стала носить их к тележке. Я ей подсоблял.
«Всё враз не подымай, помаленьку больше унесёшь, – поучала она меня. – Вот и в жизни так жо, не хапай».
Мы навалили полную тележку и отправились обратно. На угоре я подсоблял ей, тянул, идя рядом с ней.
«Вот и довезли, заробили полтрудодня», – похвалила меня бабушка.
«А где твой пинжак?» – остудила мою радость подошедшая сзади моя мама. Я со страхом понял, что где-то оставил свой моряцкий бушлатик, блестящие пуговки с якорями. Казалось, беда непоправима. Но моя добрая мама стара во время заступилась за меня. «Завтре найдём», – заверила она. Не верилось. Но деревня не город, тут все, как одна семья. Если кто и найдёт, так принесёт.
С утра мы «опеть» пошли за вицами, хоть и нужды в том ещё не настало. К радости и удивлению, пропажа нашлась. Мой «пинжак» лежал, где я его и оставил. Мы привезли ещё одну тележку виц. «Вот и слава Богу», – сказала бабушка, когда мы разгрузили свою поклажу. «Бога-то прославишь, дак все ладно будет», – снова поучала она меня. Я знал, Бога прославить, это значит надо сказать «Слава Богу».
Из нарезанных виц бабушка тут же во дворе плела пестери. По-городскому корзины, значит. Валандаться недосуг. Но выходило баско да ладно, и урок сполнен. Палочку учетчик в тетрадке поставит – трудодень будет. Огород, скотину держи – не запретят. Вот и весь с них прок.
Дядя Санутко (дядя Александр)
Кого полюбишь нежно в детстве —
Он будет в памяти всю жизнь.
Дядя Александр жил в Городке, работал пильщиком на пилораме. Он недавно женился. Приходил к нам только по воскресеньям. В этот раз мы с ним направились рыбу ловить. На задах огорода сели в лодку. Тут начиналась протока, которая втекала в реку. Дядя Санутко отталкивался вёслом от берегов, и лодка тихонечко плыла и плыла. И вот мы оказались в дремучем озере-болоте. По нему надо было проплыть, чтоб попасть к реке. Тут было темно и страшно, как в Гришки-ной сказке. Озерко по краям заросло камышом. А дальше высокие-высокие деревья сплелись ветвями так, что через них и птица не пролетит. Если верить сказке, тут жили и лешаки, и ведьмы, и водяные. Но это всё в сказке, на самом деле их не бывает. Только я так подумал, как кто-то заговорил по-человечески, нет-нет, да вздохнёт, да охнет. А из воды что-то невидимое выскочило, булькнуло, и круги пошли. Потом в другом месте. Я замер и прислушивался. А дядя Александр улыбнулся и закричал: «Ого, го, го, го, го, го!» И болото затихло. Он, видимо, их всех напугал. Я тоже знал, что ничего пугаться не надо, тогда они и не появятся.
Но вот и опять протока, вода быстрей пошла. А вот и река наша. У дяди Санутко тут место заветное было. Мы и приплыли туда. Он и мне удочку приладил. Но ждать надо, как поплавок дёрнется, и не робеть – рыбку из воды вытягивать. Вот поплавок дёрнулся и рыбка повисла на удочке дяди Санутко. Вот и у меня дёрнулся, я вытащил, но рыбки на крючке не было.
«Рано дёрнул, поспешил, но ничо, поднатореешь», – успокаивал он меня. Следующую рыбку мы вытащили вместе. Серебристые рыбки будто сами выпрыгивали из воды. А я больше смотрел, как он их вытягивает. По берегу бегал, из песка дома строил да в воде, где совсем мелко, бразгался. Незаметно время на рыбалке уходит. Солнышко к паужне в зенит поднялось. И мы уж почти ведро рыбок наловили. «Хватит на пирог, и на уху хорошую наберётся», – весело похвалил меня Санутко. И мы поплыли обратно. Болото теперь нас не страшило. Я тоже весело кричал: «Ого, го, го, го, гооо!»
Уху хлебали и все её хвалили. Я и Санутко, как рыбаки, сидели вместе.
А к утру, как все проснулись, мама стара вытащила большой пирог из печи. Макнула гусиные перья в молосное масло, помазала и закрыла его полотенцем, вышитым красным узором. «Пущай отдóхнет», – сказала она. Наконец Санутко снял верхнюю корку. «Рыбки в очередь стоят», – заметил я. Все отчего-то засмеялись, стало весело.
Изба деревенская