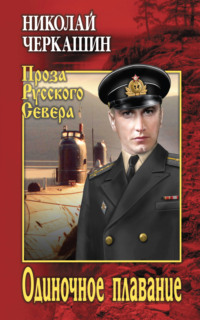
Одиночное плавание
Она высунула из-под одеяла ногу, нащупала ледяной крашеный пол, тихо взвизгнула и на пятках, чтобы не студить ступни, пробежала в ванную. В ее доме не было ни ковриков, ни тапочек. Шлепанцы бывшего мужа – зануды и ревнивца – она выбросила год назад вместе с немногими оставшимися от него вещами – бритвенным помазком, джинсовыми подтяжками, коробочкой с флотскими пуговицами и учебником «Девиация компасов». С тех пор она целый год прощалась с городом, собираясь то в Петропавловск к маме, то в Ригу к сестре, то в Симферополь к одному вдовому инженеру, с которым познакомилась в отпуске и который забивал теперь почтовый ящик толстыми письмами с предложениями руки и сердца.
Целый год в ее квартире гремели «отвальные», приходили подруги с кавалерами, бывшие друзья бывшего мужа, новоявленные поклонники… Шипело шампанское, надрывался магнитофон, уговоры остаться перемежались с пожеланиями найти счастье на новом месте. А она слушала и не слушала, прижимая к ноющему виску маленькое холодное зеркальце…
Она была безоговорочно красива. Наверное, не было ни одного прохожего, который бы не обернулся ей вслед. Даже самые заскорузлые домохозяйки поднимали на нее глаза, и на мгновение в них вспыхивала безотчетная и беспричинная ревность. Королева принимала всеобщее внимание безрадостно, как докучливую неизбежность, и если бы в моде были вуали, выходила бы из дома под густой сеткой.
Она ненавидела свою красоту, как ненавидят уродство. Она считала ее наказанием, ниспосланным свыше. У нее не было настоящих подруг, потому что рядом с ней самые миловидные женщины обнаруживали вдруг у себя неровные зубы, или слишком тонкие губы, или худые ключицы, или полную талию.
Мужчины в ее обществе либо одинаково терялись, лезли за словом в карман, вымученно шутили, либо, напротив, как сговорившись, становились отчаянно развязными, хорохорились, нарочито дерзили. И то и другое было в равной степени скучно, плоско, невыносимо. Знакомясь с новым поклонником, она с тоской ждала, что вот-вот начнет он мяться, тушеваться, отвечать невпопад либо бравировать, рассказывать слишком смелые анекдоты, выспрашивать телефон и назначать двусмысленные свидания.
Красота ее обладала особым свойством: она превращала мужчин либо в трусов, либо в фанфаронов. Она ничего не могла поделать с этим, как тот император из восточной сказки, который был наделен самоубийственным даром – обращать в серебро все, к чему бы ни прикоснулась рука. Он умер с голоду, так как рис и фрукты, едва он подносил их ко рту, тотчас же становились серебряными.
Она бы, не раздумывая, пошла за человеком, который сумел бы выйти из этого заколдованного круга. Но такого человека все не было и не было…
По утрам она подолгу стояла у окна. Синеву полярного рассвета оторачивала узкая – не выше печных труб – зоревая полоса.
Она любила Северодар и ненавидела подводные лодки. То было не просто женское неприятие оружия. Она ненавидела подводные лодки, как ненавидят могущественных соперниц. Жутковато красивые машинные существа взяли над здешними мужчинами власть всецелую, деспотичную, неделимую, они владели телами их и душами.
И все же ей не хотелось уезжать отсюда ни в уютную Ригу, ни в теплый Симферополь, ни в родной Петропавловск…
На этом скалистом клочке земли бушевала некая таинственная аномалия. Она взвихряла человеческие судьбы так, что одних било влет, ломало, выбрасывало на материк, других возвышало, осыпало почестями, орденами, адмиральскими звездами. И все это происходило очень быстро, ибо темп здешней жизни задавали шквальные ветры. И так же шквально, скоропалительно, бешено вспыхивала и отгорала здесь любовь. А может, так было по всему Полярному кругу – ристалищу судеб? И аномалия эта, бравшая людей в оборот, на излом, на пробу, называлась просто – Север…
О времени в Северодаре понятие особое. Здесь не знают слова «поздно», и сон здесь не в чести. Можно в глухую заполночь прийти в гости, и никто не сочтет это дурным тоном. «Человек уходит в море!», «Человек вернулся с моря!» – только это определяет рамки времени, а не жалкая цифирь суток. Сегодня друг на берегу, сегодня друг дома, значит, у друга праздник, и ты идешь делить его с ним не глядя на часы… Так живет плавсостав, и так живет весь город.
Глава восьмая
1. БашиловПолковник Барабаш выхлопотал-таки мне отпуск в Москву – трое суток без учета проезда «для устройства личных дел», как было записано в отпускном билете. Людмила долго допытывалась, что за личные дела я собираюсь устраивать в Москве. Но я не мог выдать главную цель поездки – инюрколлегия. Да она бы все равно не поверила насчет домика в Ницце… Я и сам-то с трудом верил, что все это не выдумка полковника Барабаша.
Москва поразила абсолютно мирной, почти блаженной жизнью. Здесь никто не удручал себя мыслями о столкновении двух военно-политических блоков – НАТО и Варшавского договора. Здесь не знали ни учебных тревог, ни построений, ни строевых прогулок… Никто не бегал с противогазами на боку, не козырял друг другу и не следил за тем, зашита ли у тебя спинка шинели, не опасался усиления ветра…
Еще я не мог отделаться от мучительно настырной мысли… Оказывается, все эти годы у меня был дед – второй после отца и третий, если считать маму, родной человек, к тому же моряк, офицер императорского флота. И жил он в каком-то потустороннем параллельном мире, в который было не докричаться, не дозвониться, не пробиться… Жил во Франции!
Ни бабушки, его жены, ни отца, его сына, уже не было в живых. Я не мог ни о чем их расспросить. Мама же призналась, что лет пять назад она получила из Франции письмо – дед разыскал нас через Международный Красный Крест – и ответила Дмитрию Сергеевичу, даже послала фотографии, но мне о том не стала ничего говорить, дабы не навредить моей военной карьере. Да и деда просила войти в обстоятельства. Тот и вошел – молчал до самой смерти, пока не вскрыли пакет с завещанием.
Моя комната, моя студенческая келья… Книги, «Мастер и Маргарита», вырванные из журналов, переплетенные, со вклеенными вырезками цензуры. Эти купюры продавались в Старом Университете из-под полы…
Первое, что поразило в родном доме – розетки электросети, не отмаркированные, как на лодке или в казарме, не опечатанные. Я прикинул, что в случае пожара выбраться из задымленной квартиры, с девятого этажа будет очень не просто, и решил, что в следующий раз раздобуду маме изолирующий противогаз или ПДУ. И вообще, жители московских многоэтажек мне показались совершенно обреченными людьми: в случае пожара все они должны были задохнуться в ядовитых дымах. У нас в отсеках хоть какие-то защитные аппараты.
Страх пожара, точнее мысль, что надо делать, если пойдет полыхать пламя, преследовала меня повсюду – в библиотеке, в кино, в вагоне метро. Отсечные тренировки по борьбе за живучесть, с каким душа, должно быть, возвращается из загробного мира и бродит среди привычных людей и вещей, зная, что срок отлета отмерен очень скупо.
Бреду по родной Преображенке.
Март. Грязь повсюду – на стеклах окон и бортах трамваев, на исковерканных решетках, которые прикрывают тут все и вся, никого от ничего не защищая. Тут царил некий мрачный союз решеток всех типов и всевозможных назначений: стальные прутья на окнах первых этажей, чугунные ребра водостоков, забитые бумагой и полиэтиленом, решетки въездных ворот, даже тоненькие решеточки на фарах вмерзшей в сугроб «Волги» – все они, казались, связаны между собой одной формулой, неким Заговором Решеток. «Решетки всех стран – соединяйтесь!»
О, эта улица Бужаниновская! Эти падающие монастырские стены.
Грязь, решетки, рухлядь, какие-то баллоны торчали из-под серого снега. Дымящие синим газом грузовики, тюремные ворота и рядом, впритык – колючка секретного завода, порталы вонючих овощных складов…
Все, все выдавало здесь жизнь неустроенную, неопрятную, подневольную, недоверчивую, озлобленную, нездоровую, полууголовную.
Здесь не живут, здесь проживают, тянут срок, отмеренный Богом, как тянут расконвоированные свои ссыльные срока. Унылая застройка недоброй памяти тридцатых годов. Стекляшка кафе-шашлычной, встроенной в стену старинного Преображенского кладбища, – из того же абсурда, что и стекляшка Дворца съездов в древнем Кремле.
Может, и в самом деле махнуть в Ниццу?!
В инюрколлегии я за полчаса решил все дела: к большому удовольствию местных клерков поставил с дюжину подписей на многочисленных бумагах – и дедовский дом на Лазурном берегу отошел в собственность Советского государства. Живи и крепни, родная держава! И никакой полковник Барабаш не вправе мне указывать, как распорядиться личной собственностью. Все! Нет у меня больше никакой порочащей недвижимости за рубежом!
2Выполнив все просьбы и наказы, лечу обратно, в мир совсем иной, на север, в родную гавань…
Она всегда рядом, эта Гавань Смерти. И в тысячеверстной дали от нее я чую ее за плечом, за спинкой ресторанного кресла, за изголовьем любовного ложа, за изнанкой безмятежного сна. Где бы ты не скрывался от ее притяжения в Москве, как бы не пытался забыть, ни стальная дверь дома, ни мамина молитва, ни коньячный кураж ни на йоту не ослабят ее грозной власти. Я всего лишь вольноотпущенник, москвич на час. На мне незримое клеймо: «Северодар. 2-я эскадра. Подводная лодка «Б-410».
И когда тебе пришлют «черную метку» в виде срочной телеграммы или пролетит последний час отпуска, даже вкус прощального поцелуя не истает на губах, как могучая сила проволочет тебя по воздуху на мрачные брега сей тайной заводи… Только и ахнешь про себя: «О, Господи, я снова здесь!..» Будто продал душу или проклял тебя кто. Но это – мое. Навсегда.
Шереметьево. Суета бывшего международного аэропорта. Никто из попутчиков, соседей по очередям, по автобусным и самолетным креслам не подозревает, что ты летишь, хоть и вместе с ними – на Север, но в особую зону, в тайное тайных. И в голову не придет никому, что ты – служитель этого подводного ада, возвращающийся на свою галеру, что ты торопишься в стальную камеру отсека…
Они беспечно снуют рядом с тобой, спрашивают у тебя то время, то зажигалку, то дорогу в буфет, они жуют, пьют кофе, читают рядом с тобой, скучают, не догадываясь ничуть, что все они на самом деле следуют по неведомой для непосвященных аппиевой дороге, по via combusta, Дороге Сожженных Мостов и Проданных душ, что все эти залы ожидания и пассажирские салоны – это преддверия к Гавани Смерти, в которую, конечно же, они никогда не попадут и даже не узнают о ней, потому что на одном из поворотов, развилок, пересадочных узлов ты, не замеченный никем, шагнешь в сторону от общего потока, сядешь в автобус без номера, но по известной лишь тебе примете, и пойдут, пойдут мелькать шлагбаумы и караульни – первая стража, вторая, третья… Всего минуешь ты их шесть, прежде чем попадешь в свое подводное жилище.
Сначала матрос в черном кожухе и валенках с галошами строго глянет в твои документы и первая стража – КПП Северного флота – опустит натянутую цепь под колеса автобуса, и ты въедешь в закрытую страну под названием КСФ – Краснознаменный Северный Флот. Вторая стража – пограничная – у турникета на морском вокзале Североморска. Бдительный погранец сверит припечатанное к удостоверению личности фото с твоим лицом. Проходи!
Третья стража проверит тебя на выходе из катера в Северодаре – а есть ли у тебя штамп на въезд в закрытый город? Есть.
Четвертая стража остановит тебя в дверях проходной будки у стальных ворот эскадры. «Предъяви пропуск в развернутом виде!» Предъявляю. Проходи!
Пятая – преградит путь у самого трапа на подводную лодку. Полусонный матрос в драном полушубке с укороченным автоматом наперевес вяло окликнет:
– Товарищ капитан-лейтенант, кому и как о вас доложить?
– Дуняшин, ты что, спишь, что ли? Не узнал?
– Виноват! – конфузится первогодок, отступает в сторону и жмет на тангенту сигнального звонка.
Ты ступаешь на обледенелую палубу, и, козырнув флагу, влезаешь в узкую рубочную дверь, затем взбираешься по стальным ступенькам, словно на помост железного эшафота, на рулевую площадку, посреди которой зияет жерло стального колодца – вход в подводную преисподнюю, и ты лезешь по вертикальному трапу внутрь лодки, внутрь гавани, и вода над твоей головой не смыкается только потому, что разъята развалом овальных бортов… Там, у нижнего среза входной шахты, тебя встречает последняя – шестая – стража: дежурный по кораблю, с черной флотской кобурой на черном ремне, опоясывающем китель. Лейтенант Весляров записывает твое имя в журнал центрального поста: «На подводную лодку прибыл капитан-лейтенант Башилов…»
Все. Кончен путь из москвичей в варяги. Ты пронесся по воздуху, аки демон с серебристыми самолетными крыльями за спинкой кресла. И пыль Арбата и Сокольников слетает с твоих ботинок на черный резиновый коврик Второго отсека. И скомканный билетик московского трамвая летит в мусорную кандейку – пустую банку из-под огнеопасной «регенерации». И ты открываешь дверцу своей каютки и пригнувшись втискиваешься между диванчиком и рундуком, привычно бьешься лбом о маховик аварийной захлопки, торчащей с подволока, и окончательно приходишь в себя.
Слава богу, я – дома.
3Там, в Москве, я и представить себе не мог, что когда-нибудь буду жить такой странной жизнью: без выходных, без личного времени, в судорожной спешке – успеть, успеть, все успеть до выхода в большие моря… Время мое принадлежало кораблю и экипажу безраздельно. И только тогда, когда в казарме зажигались синие плафоны-ночники и в спину мне козырял дежурный по команде, я сбегал по бетонным ступенькам, чувствуя, как с каждым шагом в сторону города слабеет силовое поле подплава, отпуская нервы и сердце.
Ночь и снег. Снег и ночь. Белизна и темень. Чистота и тайна. Я иду к ней… Наш нечаянный роман обречен. Она собирается уезжать из Северодара. Навсегда. На другой край земли – домой, на Камчатку, к маме. А я ухожу в море. Надолго. Когда вернусь, подрастут деревья и дети, построят новые дома, изменится мода, отпечатают новые календари… Нас разносит в разные полушария земли – ее в восточное, меня – в западное. Мы невольно станем антиподами. Даже наши письма не смогут найти нас. И почтальоны, это уж точно, «сойдут с ума, разыскивая нас».
Будь нам по семнадцать лет, мы бы отдались прекрасной игре в разлуку и верность. Но нам не семнадцать. И мы дожигаем наши железнодорожные свечи – сколько еще их осталось там, в пачке? – с мудрым спокойствием.
Ее комната не уютнее гостиничного номера. Временное пристанище: криво висящая книжная полка, протоптанная до древесины дорожка на грубо крашенном полу, случайная казенная мебель. И только ровные ряды красных кухонных жестянок с эстонскими надписями да керамический сервиз, который она расставляла на столе завораживающе красиво, говорили о том, что Королева Северодара знавала иную жизнь. И еще свеча – квадратная, фиолетовая, полуоплывшая от былых возжиганий – немо свидетельствовала о более счастливых временах.
Из окна ее, обклеенного по щелям полосками старых метеокарт, сразу и далеко открывается горная тундра, такая же дикая, первозданная, как и миллионы лет назад. Один каменный холм, гладкобокий, кругловерхий, вползал, натекал или стекал с точно такого же другого лысого холма, облепленного осенью лишайниками, зимой снежными застругами, весной перьями линяющих чаек.
Другое ее окно выходило на гавань. Пейзаж здесь прост: корабельная сталь на фоне гранита. Оскалы носовых излучателей отливают хищным блеском лезвий и взрывателей. Смотря в это окно, я всегда ловил «взгляд» нашей подлодки – пристальный, немигающий взор анаконды: «Возвращайся скорее! Твое место – в моем чреве».
Лю не спрашивала, когда я приду в следующий раз. Знала, что мне это неизвестно так же, как и ей. Кто бы мог сказать, куда и насколько мы уйдем в ближайшие два часа? И когда вернемся в гавань? И когда отпустят дела?
Ей ничего не надо было объяснять. Она знала, какой жизнью живет подплав. Хотя порой и она не догадывалась, чего мне стоило переступить ее порог, какой шлейф невероятных случайностей – серьезных и курьезных, роковых и нелепых – тянулся за моей спиной от ворот подплава.
И всякий раз это было вожделенным чудом, когда посреди погоняющих друг друга служебных дел, сцепленных без разрывов, как звенья якорь-цепи, – из построений, проворачиваний механизмов, погрузок, перешвартовок, совещаний, дифферентовок, политинформаций, тренировок, – вдруг возникали ее стены, ее лицо, ее глаза… Оно не долго длилось, это призрачное счастье, – считаные часы, а то и минуты – до стука посыльного в дверь, до тревожного воя сирены, до отрезвляющего пения «Повестки»… И снова грохотала нескончаемая якорь-цепь срочных горящих дел: ремонты, зачеты, собрания, медосмотры, учения, дежурства, наряды, караулы, выходы в полигоны… Мы сверяли свое время по разным стрелкам: она – по часам, я – по секундомеру.
Мы могли видеться только по ночам, и потому встречи наши, украденные у сна, казались потом снами… Днем же спать хотелось, как зеленому первогодку. Сон подкарауливал меня в любом теплом и покойном месте, чаще всего на общих подплавовских собраниях и совещаниях…
Получалось так, что мы вообще не имели права встречаться, ибо любой мой час принадлежал службе, кораблю, экипажу. Даже будь я существом абсолютно бессонным, и то бы не успевал делать того, что требовали от меня директивные письма, приказы, наставления, уставы, инструкции… В те считанные часы, которые мы проводили вместе, я бы – суди меня суровое начальство – мог сделать как раз то, что должен был исполнить месяц назад, – составить «план реализации замечаний» или заполнить «журнал учета чрезвычайных происшествий»… Разумеется, никто не заставлял меня корпеть по ночам над карточками учета взысканий и поощрений или сводками о наличии… Но в подсознании все же тлела вина перед кораблем, перед службой, она тайно жгла, и оттого наши встречи были еще желанней.
* * *К весне в Екатеринской гавани становится тесно. Из дальних морей и из ближних фиордов сползаются к родным причалам подводные лодки, сбиваются в стаю, словно угри, готовясь к долгому переходу в теплые моря. Уходят на боевую службу и возвращаются бригадами – по 9—10 лодок одновременно.
Вопли чаек. Взвизги сирен. Мерный топот матросских сапог. Строй в бушлатах, в шинелях, в пилотках марширует по доскам причала. Лейтенант-строевода налегке, в кительке и в обмятой, грибом, фуражке шагает сбоку, ежась на свежем морском ветру. На чумазых скулах матросов, на мальчишеском лице офицера ярые блики марта. Непривычное солнце – ох, долга ты, полярная ночь! – пляшет на горных снегах Императрицынского острова, на красных глыбах гранита, пересверкивает на зеленой ряби воды, греет черные лбы рубок и слепяще вспыхивает на блескучем титане округлых носов. Лодки, черно-красные, как паровозы, сипят и попыхивают зимогрейным паром.
«У!»
«У!!»
«У!!!» – басит чей-то тифон, И что-то перронное, щемяще дорожное закрадывается в душу: в путь, в путь, в путь… Туда, за синий поворот залива, за боновые ворота, за крутой бок острова, – откуда приносят норд-весты бодрящий холодок ледяных полей студеного океана и где под закатной багровой дугой тяжело перекатывается мертвая зыбь туманной Атлантики.
4Екатерина Абатурова очень удивилась, когда у самой кассы аэрофлота к ней подкатила черная адмиральская «Волга» и адъютант Ожгибесова, старший мичман Нефедов, распахнул перед ней дверцу:
– Командир эскадры просит вас прибыть к нему в штаб!
– Меня?!
– Вы жена капитана 3-го ранга Абатурова? – уточнил на всякий случай адъютант.
– Да… – сказала Катерина и чуть не добавила «бывшая».
– Вот именно вас он и приглашает к себе.
– Но зачем?
– Он сам вам скажет об этом.
Весьма заинтригованная Катерина села в машину. Благо ехать было всего пять минут.
О том, что командир «Б-410» капитан 3-го ранга Абатуров расторгает свой брак, Ожгибесов узнал от начальника политотдела. Это было пренеприятное известие, так как благополучие командирских семей, совершенно справедливо полагали в верхах, прямым образом сказывается на боеготовности кораблей. Начпо сулил разведенцу всякие неприятности, вроде партийных взысканий за «моральное разложение», задержки очередных званий и прочие напасти. Ожгибесов, обладавший даром, как он полагал, знатока женских сердец, вел душеспасительные беседы с женами-отступницами сам.
Чаще всего это ни к чему не приводило. Но Ожгибесов считал, что он обязан сделать все, чтобы спасти гибнущую командирскую семью от развала. Вот и в этот раз он первым делом запросил у начальника особого отдела «подноготную» на Екатерину Абатурову.
«Екатерина Борисовна Абатурова, урожденная Альметьева, 27 лет. Окончила севастопольский приборостроительный институт. Родители проживают порознь. Отец – министр коммунального хозяйства Карельской АССР. Мать – работник севастопольского горкома КПУ.
До брака проживала и проживает сейчас в кооперативной квартире в Ленинграде. Детей нет…»
Ожгибесов видел красивую крымчанку-ленинградку всего лишь несколько раз, поскольку в Северодар она приезжала нечасто. Ее внешние данные, фигура, волосы, глаза, манера держаться – были оценены Ожгибесовым по высшему балу. Но жены командиров – табу. Это он постановил себе с первых же дней службы на Севере. Лейтенантши – другое дело, тут он как бы наказывал «своею властью» молодых офицеров, опрометчиво начавших свою флотскую службу с дворца бракосочетаний, а не с плавказармы, тренажеров, полигонов…
Она вошла в его кабинет после доклада адъютанта. Ожгибесов вышел из-за стола, точно монарх, спустившийся с престола, и тут же провел гостью к чайному столику, сразу давая понять, что разговор пойдет не официальный и совершенно доверительный.
– Как же так, Екатерина Борисовна, я не могу поверить, это, конечно, ваше глубоко личное дело, но… Абатуров один из лучших наших командиров. Я представляю, как он деморализован. Ему предстоит такой сложный выход…
– И вы хотите, чтобы я оставалась его женой до конца «сложного выхода»? – усмехнулась Катерина. Ее забавляло смятение адмирала – ну кто бы мог подумать, что ее решение о разводе вызовет такой переполох в этих суровых государственных стенах.
– Мы бы хотели, чтобы вы оставались ему женой не только до конца похода, но и навсегда, если это все-таки возможно, оставались членом нашей гарнизонной семьи.
– Я никогда не была членом вашей гарнизонной семьи, поскольку так и не обрела своей собственной – полноценной! – семьи. – Катерину начинало злить столь бесцеремонное вторжение в ее личную жизнь, и Ожгибесов сразу же это почувствовал.
– Я понимаю, я понимаю… К сожалению, нам приходится много плавать, больше, чем выдерживают семейные устои. Но так складывается обстановка в мире. Мы по сути дела ведем боевые действия в мирное время. И люди, и корабли используются с чудовищным коэффициентом напряжения…
– Вы хотите, чтобы я изменила свое решение, исходя из международной обстановки?
– Я понимаю вашу иронию… Но мне очень горько, поверьте, лично мне, не как командиру эскадры, начальнику капитана 3-го ранга Абатурова, а как человеку, даже, если хотите, как мужчине. На моих глазах рушится семейная жизнь, возможно, и по моей вине… У меня тоже был такой период, когда жена не вынесла моих бесконечных «автономок», и мы чуть не разошлись. Слава богу, что этого не случилось. Мы все-таки удержались, выстояли…
– А я вот не выстояла… Не хватило терпения ждать, когда главное место в его жизни займу я, а не его подводная лодка. Простите, вот такая я! Я живой человек, и меня волнует прежде всего… ну, никак не ваше железо, которому вы так рьяно служите и которое губит вас. Я хочу быть счастливой без ваших кораблей, вашего гарнизона, вашего женсовета… И я буду счастливой! Уверяю вас! И не делайте государственной проблемы из нашей совершенно заурядной семейной драмы!
– Хорошо! – согласился Ожгибесов. Он осторожно наполнил рюмки коньяком. – Не будем делать никаких проблем. Просто мне жалко, что еще одной красивой женщиной на Севере станет меньше. За вашу новую жизнь!
Катерина залпом опрокинула рюмку, и Ожгибесову это понравилось.
– Вы ведь родом из Ленинграда? – спросил он, наполняя опустевшие рюмки.
– Я родилась в Севастополе, но живу в Ленинграде.
– Значит, мы земляки. У меня квартира в Автово.
– А у меня на проспекте Ветеранов.
– Да мы почти соседи! Приходите в гости.
– Спасибо.
– Вам чем-нибудь помочь? С транспортом, с билетами? Вы когда уезжаете?
– Завтра.
– Позвоните мне вот по этому – прямому – телефону. Если будут проблемы. Или даже если их не будет.
– Хорошо.
– Ну, на посошок! – и Ожгибесов наполнил рюмки в третий раз. Он сделал все, чтобы спасти советскую семью.
* * *Контр-адмирал Ожгибесов сутками не выходил из штаба. Никто не давал сигнала на вскрытие красного спецпакета. Но все распоряжения, все мероприятия шли явно по готовности «номер один».