И я пишу, пишу…
Длится лето 1992 года; справляем девятый день, потом сороковой; мать начинает привыкать к одиночеству. Сначала мы строим планы немедленной продажи дома и переезда матери в Ярославль, ко мне, – но вскоре отказываемся от них. Причин много: в разгаре гайдаровская «шоковая терапия», деньги обесцениваются с каждым днем; моя жена не в восторге от совместного житья со свекровью. А главное – мама осознает, что жить в городе не так уж и сладко, особенно в нынешнее сумасшедшее время. Она решает пока что остаться в Глебове – тем более, что и без переезда у нее забот полон рот: дом, огород, куры…
В каждый мой приезд к матери мы ходим с ней на могилу папы – поливаем цветы, обмахиваем тенёта с венков, подолгу сидим у низкой оградки, разговариваем, вспоминаем. Я выпиваю стопку водки, другую ставлю на папин холмик. Здесь, среди берез, – благодать: тишина, покой, зелень. Единственное неудобство – комары, но мы уже к ним притерпелись.
Боль утраты поутихла, уступив место печальному смирению, – и всё чаще в нашу печаль вторгаются неожиданные улыбки, ибо папа «начал шутки шутить». В высокой траве рядом с оградкой мы обнаруживаем вдруг три замечательных белых гриба: один стоит отдельно – это, конечно, «мама Нина», а два рядышком, поменьше – это «Женя с Андрюшей». Такая игра бытовала в нашей семье лет тридцать тому назад, когда мы с Андрюхой были маленькими, – и так напомнить о ней мог только папа…
В другой раз он «шуткует» не столь ласково: после того, как мать, чуть-чуть выпив и разговорившись, начинает, прибирая могилу, вспоминать какие-то обиды, нанесенные ей покойным, она сильно ударяется ногой об ограду.
– А не критикуй, – говорит она сама себе, морщась от боли, – вот тебе, старая… Да, здорово, Феликс Михайлович, ты мне… – она ищет слово поточнее и, наконец, заканчивает фразу редким в ее устах матюжком.
Я помалкиваю, хотя внутренне согласен с отцом: ругать покойного, да еще на его могиле, – грех.
Папа начинает сниться маме. Сразу после похорон, дня через три, она видит сон-мгновение: папа молча сидит на стуле возле ее кровати. Это видение кладет начало длинной череде встреч. За день до сорокового дня он снится ей сидящим за кухонным столом, на своем любимом месте.
– Я не умер, я жив, – слышит она. – А то, что случилось, – это сон…
Затем загробные встречи идут полосой. То она едет с ним на каком-то пароходе: он спит прямо на палубе, и так плохо, бедно одет, что у нее сжимается сердце от жалости и стыда. Пароход подходит к пристани; «Дементьево, Дементьево», – говорят все кругом, и маме с папой тоже надо сходить на берег. То вдруг он снится ей в зимней одежде, хотя на дворе еще теплая осень, и она недоумевает, к чему бы это, – а через несколько дней выпадает ранний снег и наступают холода.
Порой она даже не видит его, только ощущает его присутствие… Постепенно она привыкает к мысли, что он действительно где-то здесь, рядом, – и это ощущение переносится ею в явь.
– Ну-ко, Феликс, давай помогай! – бросает она в пространство, когда что-то не ладится. А затем, попозже, тянет удовлетворенно:
– Ну, во-о-от… это дело мы с тобой одолели, Феликс Михайлович…
В мои сны отец приходит редко. В начале июля я вижу его впервые после похорон: он сидит за столом вместе со своим отцом – моим дедом Михаилом Андреевичем; они о чем-то спорят. Я пытаюсь принять участие в их разговоре, но они не разрешают, гонят меня, – и я просыпаюсь. «Покойники тебя к себе не пускают», – замечает моя жена, – это хороший сон.
А 3 августа, в полдень, я ложусь отдохнуть на любимый диван и, мгновенно забывшись, вижу летнее Глебово и старую родительскую квартиру при санаторно-лесной школе…
…стою в темных дверях; дверь на улицу открыта настежь, дверь в дом – тоже; так мы спасаемся от невыносимой жары. Мама – дома, в комнате; я разговариваю с ней, одновременно краем глаза наблюдая за окнами, которые мне видно через дверной проем.
– Так папа-то что – не придет? – спрашиваю я.
– Да не знаю, – откликается мать, – может, и нет…
Но тут же, заметив в одном из окошек мелькнувшую фигуру, я восклицаю:
– Да вон он идет!
В сени входит папа – загорелый, довольно бодрый, хотя и усталый. Я обнимаю его, целую, – и во все глаза гляжу на него. Так он вернулся?
Он высвобождается из моих объятий – и проходит в дом, на кухню; я – за ним. Изо всех сил всматриваюсь в его черты: какой он? Тот же самый, или?.. Он ли это?
Он, кажется, тот же самый… но вдруг, прямо на глазах, начинает меняться. Причем изменение это выражается во всё более усиливающемся сходстве со мной самим – таким, каким я себя привык видеть в зеркале: те же глаза, нос, рыжая борода…
Двумя холодными руками папа берет меня за горло – но не душит, а только держит. И вдруг начинает по-бабьи, с мамиными интонациями, жаловаться мне:
– Да вот, милый ты мой, шутка ли… от такой-то ерунды… и не болел ведь уж очень-то сильно, а вот, поди ж ты…
Он жалуется мне на то, что он умер, он говорит, что ему хотелось бы еще пожить…
И тут я просыпаюсь. Голова моя лежит на диванном валике, в чрезвычайно неудобном положении, шея болит. Рассказываю сон жене, пытаясь сразу же, по ходу дела, растолковать увиденное. Согласно Артемидору, воскресающие покойники сулят тревоги и убытки. Это-то ладно, к тревогам и убыткам нам не привыкать, но вот что может означать «узнавание в покойнике себя», «выслушивание жалоб покойника»? Этого у Артемидора я не нахожу…
Хотя разгадка так проста!
Порой меня самого удивляет та пристальность, с какой я всматриваюсь то в беглые эпизоды дневной жизни, то в смутные ночные видения. Неужели я и впрямь уверен, что всё происходящее со мной наяву и во сне имеет еще один, тайный смысл, который надо разгадывать?
Не знаю… Но уже давно не могу отделаться от ощущения, что моя жизнь, вся целиком, от рождения до смерти, уже где-то, кем-то сочинена – и я обречен проживать ее, перемещаясь со страницы на страницу неведомого мне текста.
Но если это и впрямь так, если моя судьба придумана неким «творцом», то… то ведь в ней не должно быть случайностей! Такие мастера не допускают погрешностей: каждый шорох травы здесь обязан быть наполнен смыслом, каждое висящее на стене ружье должно однажды выстрелить, все реплики и эпизоды приговорены перемигиваться между собой, любая картинка – что-то символизировать…
Если это так, если моя жизнь – не «случайная фотография», а произведение великого Автора, – тогда я прав: в нее стоит вглядываться до рези в глазах, вслушиваться до боли в ушах.
А если нет?
Всё осталось на своем месте – там, где было, и где пребудет. То же майское солнце льет предвечерний ласковый свет на избы и проулки села Глебово, тот же молодой алкоголик подходит, пошатываясь, к дому номер пятнадцать на улице Новой и, грузно навалившись на теплый штакетник, окликает хлопочущего в огороде хозяина. Сейчас тот пошлет его подальше и, высоко подняв тяжелую кувалду, что есть мочи грохнет ею по железной трубе. И еще раз. И еще… Но у меня больше нет сил смотреть на это.
Мне надо плыть… Я не знаю, что ждет меня впереди, что за сила влечет меня в путь, у меня шаткая опора – всего лишь пачка листов бумаги, исписанных моим торопливым почерком. Когда-то, много лет тому назад, Господь надоумил меня потратить один из летних отпусков на запись воспоминаний отца и матери, я истомил, измучил родителей ежевечерним «залезанием в душу», но, в конце концов, последние скобы были вбиты – и маленький плотик закачался на волнах. Теперь я могу шагнуть на него и, оттолкнувшись от берега, поплыть по беззвездной реке. Он ждал меня всё это время, он сухой и прочный, мой плот, – он должен выдержать!
Да, кругом тьма. Я лишен способности видеть, я слеп. По запаху ветра и вкусу воды невозможно ориентироваться; кроме плота, реки и собственного тела, мне нечего осязать; остается только слух. Я должен научиться слышать этот мир.
Что я стану делать, когда шест перестанет доставать до дна, когда незримый водоворот закружит мою опору и я перестану понимать, в какой стороне берег? Мели, перекаты, бревна-топляки, встречные суда… тысяча препятствий может возникнуть на моем пути!
Но мне пора. Прощай, твердый берег, прощай, оранжевое окошко, горящее во тьме. Тихо плещет вода под ногами, пружинят бревна, сырой воздух холодит лицо. В моих руках – длинная жердь, я упираюсь ею в дно… поехали…
Резкий толчок! – и, потеряв равновесие, я едва удерживаюсь на ногах. Плотик тяжелеет, оседает – я чувствую, что вода доходит до щиколоток.
Это – папа. Он поплывет со мной.
1993-2021
«Судовой журнал “Паруса”»
Николай СМИРНОВ. Запись 25. Спорок с шубы
Дочка, студентка, позвонила по телефону и – со слезами: ботинки, которые на прошлой неделе купили ей в Ярославле на рынке за 400 тысяч, оказались с браком: ботинок один лопнул. Это треть моей месячной зарплаты или месячная жены, а ей уже зарплату пять месяцев задерживают. Дочка сильно расстроилась, пошла на рынок к торговцу, а он извернулся: я отремонтирую за свой счет. А зачем нам они, отремонтированные?..
Пошла от торговца домой – мужик продаёт щенков. Возьми девушка за две тысячи. Она отказалась. Бери так! С расстройства, не подумав, зачем – и взяла одного и про ботинки забыла, принесла домой к хозяйке, где живет на квартире. А потом и к нам в мартовский выходной привезла.
Дворняга всю ночь скулила, спать не давала. Сегодня жених дочери понёс его топить, а навстречу мальчишка:
– Бери собаку!
– Бесплатно? – удивился мальчишка и взял.
Как в сказке: первый встречный – от Бога. А, может, и выдумал, чтобы не огорчать: отдал на прокорм диким зверям. У нас в городе в эти дни приехал зоопарк: разместился на площади, в кольце фургонов. Иду мимо – вой, как в лесу. Звери у них, говорят, голодные; на волков посмотрел и – не узнал, какие они жалкие, точно прибитые, меньше собачонок.
До восемнадцатого века жизнь в крупных городах мало отличалась от жизни во глубине России. Да и теперь наш мир-народ уездный, чем-то еще похож на тот, что жил в девятнадцатом, крестьянском веке. И заботы те же, и бились так же в бедности и лихих делах; будто встречая знакомые лица, читаешь разные записи еще и допетербургских лет. Но удивило меня, как сумасшедший царь, убивший родного сына в 1582 году, посылает на помин загубленных душ в Ферапонтов монастырь: «Да по Иване и Игнатье и по семидесяти человекам опальным, побиённым крест золотой с каменьями, да шубу во сто рублев, в помин царевича Ивана шестьсот рублёв. Да по убиённом сыне, по царевиче Иване Ивановиче, спорок с шубы венецианского бархату с петлями золотыми да бархату лубского, да сани с хомутом с песцовыми хвостами, и полость, и барсовый тюфяк, да по сыне же царевиче Иване Ивановиче, ожерелье, терлик, седло бархатное с камкою и четырнадцать рублев».



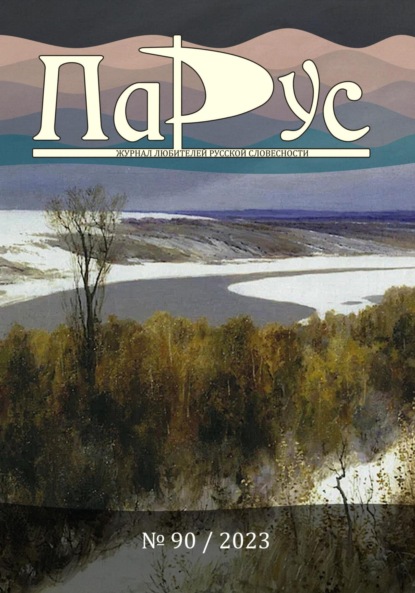




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0