Лучшая из оставшихся фотографий отца – та, которую я отдал потом в ателье, для портрета на памятник. Это фото делал он сам – выбирал позу, ракурс, выражение лица, сам себя снимал (с помощью автоспуска), сам проявлял, печатал, наклеивал готовый позитив на картон и обтягивал его прозрачной пленкой… C портрета глядит на зрителя симпатичный, несколько франтоватый мужчина лет сорока, в сдвинутой на лоб зимней шапке и с сигаретой в руке.
Помню, сначала мне это фото не нравилось, казалось нарочитым: зачем эта сигарета? почему в шапке? Но, приглядевшись, я понял – папа хотел видеть себя именно таким: непростым, с отчетливой особинкой, ни в коем случае не «тюхой-матюхой», за которого его подчас принимали. Шапка и сигарета стали теми деталями, которые он интуитивно использовал для подчеркивания этой особливости. Хотя о главном, конечно, говорит лицо и, прежде всего, взгляд – цепкий, чуть насмешливый, одновременно и доброжелательный, и готовый к отпору, взгляд настороженный, непростой…
…этот взгляд находит меня сейчас в любом углу комнаты. То хмурится: «Опять дурью маешься?.. пиши давай!..», то улыбается, подбадривая: «Ну-ну, Женька, не трусь, не так страшен черт…»
Да, теперь я вижу, что отец был прав, когда сочинял, изобретал это свое изображение. Теперь мне понятно, что оно – точнее «не отрепетированных заранее», ибо гораздо лучше говорит о папиной душе – сложной, непредсказуемой, игровой душе выдумщика…
«Выдумщик» – это звучит серьезно. Любое художественное творение человека есть миф, выдумка, все творцы – мистификаторы. И это очень хорошо. Ибо если мы будем доверять одной скучной «правде», то не узнаем главного о человеке и мире, не узнаем, какими они хотели бы быть, какими стали бы при других обстоятельствах… Да, стали бы!.. если бы Господь дал возможность человеку и миру всё переиграть, свернуть в сторону с открывающегося пути, – мы убедились бы в этом.
Что же такое «правда»? Случайные фотографии! Фотографии, запечатлевшие нас «не лучшими», «не полными», ущербными. Да, именно так: некрасивость правды вопиет об ее ущербности, указывает на недостаточность только смирения с правдой, одного только приятия ее, – и прямо говорит о необходимости стремиться к идеалу. Пребывающему, конечно, за пределами человеческой жизни, но – могущему быть воплощенным. Где? В творениях искусства, конечно. В «выдумке»!
Так думаю я, глядя на отцовский портрет.
Приехал Волгин. Уже с порога он начинает, по обыкновению, балагурить, травить какие-то анекдоты; голос его кощунственно громок. Мать, с одной стороны, довольна, что он приехал, – дядя Саша человек практический, толковый, от него можно ждать реальной помощи в любом деле; но с другой – раздосадована его манерой поведения, не изменившейся ни на йоту даже в этот печальный вечер.
К Волгину нужно привыкнуть. Поначалу он производит впечатление чрезвычайно наглого, бесцеремонного ухаря; привыкнув же, начинаешь ценить в нем главное – открытость, прямоту, неспособность к подлости. Человек страшно деятельный, мастер на все руки, – и плотник, и столяр, и токарь-универсал, – он пережил уже двух жен: мамину старшую сестру, Шуру, и вторую, которую я никогда не видел.
Несмотря на свои почти шестьдесят лет, дядя Саша крепок, кряжист, в силе. Если бы папа был жив, то неподдельно обрадовался бы его приезду…
«Он любому радовался, – слышу я голос матери, – любому, кто приезжал. Особенно, если с бутылкой…»
Волгин привез, как и обещал, самогону и огурцов. Он тут же включается в общие хлопоты – чистит картошку, режет мясо; одновременно рассказывает бородатый анекдот.
– Слышь, – гремит он на весь дом, – старик-то пред образами молится: «Господи, укрепи и направь», а старуха-то на печи другое: «Господи, да ты только укрепи, а уж направить-то я и сама направлю…»
Он раскатисто хохочет – и мама не выдерживает.
– Саша, замолчи, – говорит она звенящим от подступающего рыдания голосом, – замолчи, а то я заплачу…
Волгин, наконец, осознает, что его поведение бестактно – и, крякнув, понижает тон. После паузы заводит подходящую к ситуации речь, – о болезни и смерти, – и мать успокаивается.
– Да!.. вот она, жизнь человечья, – приглушенно рокочет дядя Саша. – То же самое и нас всех ожидает. А что сделано?.. много ли? Построил два дома, вырастил двоих детей – и пора на тот свет… Обидно!
– Мало Феликс пожил, мало, – вздыхает мама. – Чего!.. шестьдесят два года, возраст ли это! Мог бы пожить еще лет пять… да хоть и все двадцать! Жил бы себе да жил… Это всё этот, – злобно говорит она вдруг, – Семенов этот… У-у-у, гадина проклятая! Это он его довел. Вот ведь как: не любил он его, а именно у него на коленях и умирал… как нарочно!
– Один еврей, – начинает Волгин, – тоже умирал, слышь; собрал семейство и говорит…
Вечер длится. Часов в десять садимся за стол, мать ставит бутылку, выпиваем за упокой души Феликса Михайловича, разговариваем. За полночь в дверь стучат, я выхожу открывать – на пороге стоит высокий лысый мужик. После конфузной заминки выясняется, что этот тесть Андрюхи, Николай Александрович. Я его видел раньше всего раза два – немудрено, что не признал.
Снова выпивка, разговор. Андрюхин тесть и дядя Саша вмиг находят общий язык, на «слесарной» почве. Спать им не хочется: разбирают и точат мясорубку, потом принимаются готовить котлеты.
Часа в два я ухожу спать. Мужики все еще курят и беседуют.
_________________________
Мотоцикл простреливает насквозь гулкое утреннее село. За рулем – Сережа Вахромеев; я и еще двое мужиков – в коляске, а точнее, в деревянной тележке. Едем копать могилу.
Утро – свежее, бодрое, зеленое; день обещает быть знойным. В кладбищенской роще – комариный стон, шепот листьев, пятна света. Без перекуров и долгих приготовлений мужики приступают к работе. Земля тут и вправду «легкая», яма быстро уходит в глубину. Вскоре, однако, копать сразу в несколько лопат становится неудобно – и Баруздин залезает в яму один.
Мне, как сыну, рыть могилу нельзя. Смотрю на растущую гору суглинка, слушаю Сергея, который убежденно доказывает мне правоту буддистов.
– Как может человек умереть? – вопрошает он. – Этого ни в одной религии нет, а древние не глупей нас с вами были. Все религии говорят: человек бессмертен. И все-таки глубже всего этот вопрос разработали буддисты. У человека, говорят они, не одно, а семь тел…
Сменив уставшего Баруздина, Сергей забирается в яму по плечи, из-за горы земли его не видно. Вместе с комьями из ямы вылетают прерывистые слова-вздохи:
– …а в тонком мире – астральное тело. Этот тонкий мир всю землю окружает, это как бы такой ореол вокруг всей планеты. Сейчас еще Феликс Михалыч туда не попал, сейчас его душа – в эфирном теле. Она встречается со «светящимся существом», просматривает свою жизнь…
– Да, – поддерживаю я разговор, – об этом у Калиновского написано…
– И Калиновский, и Моуди – это всё популярные изложения, – доносится из могилы. – А вот «Агни-Йога» и «Бардо Тёдол» – это уже серьезные труды. Вы не читали «Тибетскую книгу мертвых»? Вот там всё по дням расписано – все скитания в «тонком мире», все кармические видения…
Мужики, вместе со мной слушающие рассуждения Сергея, только головами крутят от такой учености. А сам он, видимо, рад, что нашел подходящего слушателя. Из ямы слышится:
– …только дня через три-четыре он осознает, что он мертв… Тут-то оно и начинается, пребывание в Бардо. Духовное тело скитается там сорок девять дней, пока не найдет себе новое материнское лоно. Вообще, «Книга мертвых» трактует так, что самое лучшее – не рождаться снова, постараться остаться в том мире. Но это мало кому удается, в основном, все рождаются опять и опять. Это – Сансара, колесо рождений…
…и ни слова о Христе не слышно на месте будущего погребения, никто из копалей даже ни разу не перекрестился – словно православие никогда и не заглядывало в эти места.
Да, но разве эти люди – бездуховны? разве сам факт их присутствия здесь, их добровольной тяжелой работы – не показатель их принадлежности к тому царству человеческого единения, где нет ни эллина, ни иудея? И разве мой папа, не крещеный и не веривший в Иисуса Христа, не будет спасен?
Если – нет, то зачем мне такая вера? А если – да, если человек, не умеющий перекрестить лба, тем не менее, добр, честен, праведен, то…
«То зачем нужно христианство?» – думаю я вдруг.
И тут же поправляю сам себя: нет, наверное, именно века христианства и сформировали наш народ вот таким – некорыстным, милосердным, отзывчивым к чужой беде. А семидесятилетние гонения на русскую православную церковь уничтожили у нас – или почти уничтожили – одну лишь обрядность и прочую внешнюю атрибутику православия. По глубинной же своей сути мои соотечественники – и сейчас те же самые, какими были до Октябрьского переворота. И все эти увлечения чужими верованиями – лишь нечто временное, наносное, не затрагивающее наших душевных основ…
Могила готова – и мы садимся в траву под березой, дабы «обмыть это дело». Водка не пьянит, только теплая волна на минуту накрывает меня с головой – и, схлынув, уходит куда-то. Говорим о Феликсе Михайловиче: будь он сейчас с нами, уж непременно опрокинул бы стопочку, с удовольствием поболтал, обсудил все эти вопросы. А быть может, он и в самом деле сейчас где-то здесь, рядом? Ведь тут, на майской земле, так славно веет сейчас теплый ветер, так плавно качаются зеленые ветки, так добры и чисты грубые лица людей, только что соорудивших последний приют для оставленного душою праха. Сядь с нами, папа, подними стопку любимого яда – выпьем за твой вечный покой, за твое избавление от земных страданий…
Черный комок мелькает среди зеленых веток, остроклювое любопытное существо глядит не мигая на нашу трапезу… кыш!
Смотри-ка, она не боится, она и не думает улетать. Стоп, мужики, не будем ее пугать, не надо. Быть может, это совсем и не ворона, не только ворона… Папа-папочка, немного дал тебе Бог – ту же черную фуфайку, ту же перелетную судьбу. Что делать!.. получаем то, что заслужили. Не улетай, побудь с нами еще немного, покачиваясь на ветке и нацеливаясь круглым своим зраком на кусок черного хлеба…
В последний путь… Раскаленное небо, слепящее солнце, белые клубы пыли. Натужный рев мотора, остолбенелые лица встречных, палисадники, наличники, крыши. Расплавленный слезящийся диск, черные силуэты деревьев, серые окна, лица, глаза. Каменные скулы покойника.
Лица братьев матери – круглые, мелкоглазые, заячьи. Автохтонное население Верхневолжья, угро-финны, племя весь, – вот кто мы такие. «Обряд погребения у племени весь». Или так: «Мимика, выражающая горе, у представителей племени весь».
Завывание мотора, пыль, зной. Вот так однажды повезут и меня. Еще не скоро. А этих уже скоро. О чем они думают, качаясь в кузове грузовика и держась друг за друга на шаткой лавке?
Вот, Феликс умер… Нина одна остается. Дом, видно, продавать будет. Дом-то хороший, большой, тысяч сто пятьдесят дадут. А может, и все двести. Да что сейчас на эти деньги купишь… Рановато помер Феликс, рановато. Что делать, сердце износилось. Касьянов год. Все там будем, не минуем.
Застывшие лица встречных. Кого это хоронят-то? А!.. это того мужика, у которого дом-то с птицами. Так ведь он же не больно и старый был. Больной? А-а-а… А дом-то у него хороший, большой, – продавать будут теперь, аль нет? Это жена сидит, а рядом-то сыновья, видать. Без музыки нынче хоронят – знать, дорого…
Лицо отца – холодный тесаный камень. Твердо сжаты губы, в бескровных чертах – выражение собранности и решимости. На что ты решился, папа? Я вижу – ты уже далеко от нас, далеко-далеко…
Не жмет ли тебе крестик? Я все-таки надел тебе его, уж прости, снял с себя и надел, а веревочка оказалась коротковата, сразу врезалась в шею. Прости меня, ты, может быть, был бы против, но я все-таки надел…
Последние поцелуи. Уверенная речь «представителя общественности». Стук земли о крышку гроба. Всё, как у людей.
Поминки. Люди идут и идут, не хватает места. Милые, так вы все любили папу? Дайте, я вас поцелую! У всех налито? Давайте помянем Феликса Михайловича. Валера, Сережа, Коля, спасибо вам за всё, куда бы мы без вас… выпейте!



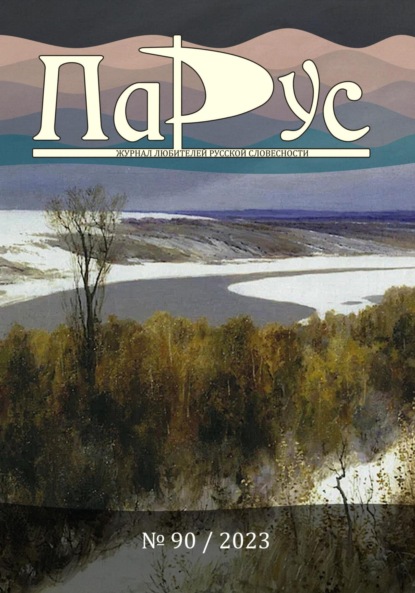




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0