Да, хорошая смерть, легкая смерть. Сам не мучился и других не мучил.
Нет, как же это так? Ведь я с ним совсем недавно разговаривал, он и шутил, и смеялся, как всегда… как же это?
И к каждому-то он умел подход найти, такое слово сказать, чтобы человек заинтересовался… И о политике мог поговорить, и о деле, интересно было с ним… Не плачьте, Нина Александровна, дай Бог каждому так уйти. Детей вырастили, дом у вас прекрасный…
Спасибо вам, добрые люди, что вы пришли и помогли нам. Дай вам Бог счастья за ваши добрые слова и дела, за помощь.
Вот и всё. Теперь я могу лечь навзничь и провалиться во тьму. «Поминальный обряд племени весь» завершен.
…когда я могу позволить себе напиться до бесчувствия – всегда напиваюсь. Хотя вообще-то к спиртному меня не тянет, месяцами могу не пить. Все-таки зачат я был в трезвости и выпивать начал очень поздно, это сказывается…
Совсем не пить? Но ради чего?
_________________________________
Встаю совершенно разбитый, мятый, со страшной головной болью. Долго не могу подняться с постели, вяло одеваюсь, с трудом отвечаю матери.
Время – восемь часов вечера; все, кто приходил на поминки, уже разошлись по домам, мамины родичи вместе с Андрюхой уехали на последнем автобусе. Посуда вымыта, лавки и табуретки унесены. Мать наливает мне горячего чаю – и я, мало-помалу, оживаю.
– Пошли, погуляем, – предлагаю я. – Погуляем, поговорим…
Мать соглашается.
Медленно идем вечерним селом, удаляясь от центра к лесу. Сумерки; кой-где на небе поблескивают звездочки; тепло и тихо. Мама в который раз рассказывает о подробностях папиной кончины, пытаясь угнездить в своем сознании новость, резко меняющую ее жизнь.
– …а Баруздин говорит: надо унести его домой. Тут у кого-то были носилки медицинские, вот на этих носилках унесли его домой, положили на крыльце. Коля говорит: надо его обмыть да одевать, а то закостенеет. Решили не мыть, – он недавно из бани, – а только обтереть мокрой тряпкой. Баруздин его раздел догола, снял с него свитер, носки, «гамаши» – он в последние годы всегда тепло одевался. А Тамара Лесовая с Толей – обтерли. Коля мне говорит: ищи белье чистое. Дала я новые трусы, майку, рубашку, достала новый серый костюм. Расческу положила в карманчик, носовой платок новый. Коля говорит: давайте его вытащим на веранду. Вынесли стол из передней комнаты и поставили на веранду, положили Феликса на него. Рот полотенцем подвязали, а то он был полуоткрыт…
Врач-то пришел только через два часа после смерти! Я ему говорю: а могла бы я спасти его? Вот если бы я что-то сделала такое, чтобы он очнулся, да еще пожил, а? А он мне говорит: не терзайте себя. Если бы, – говорит, – его даже оживили в этот раз, он бы недолго прожил. Такие больные после реанимации живут год-два…
Ну, пришли еще люди… Галя Баруздина дозвонилась до Рыбинска, до какого-то вахтера, а тот позвонил тебе. Любе я дала все адреса, она пошла телеграммы давать. Всё делалось… Тамара Лесовая сидела со мной до твоего приезда. Потом ты приехал, пошел к Феликсу на веранду, поплакал…
На улице уже совсем темно, да и зябко – вечерняя свежесть превозмогла тепло мая. Идем с матерью по окраине села, под яркими звездами, я обнимаю ее за плечи. Какая же она маленькая и слабая!.. как она будет без папы?
От выпитого на поминках меня всё еще пошатывает, голова прямо-таки раскалывается. Вяло слушаю мать, рассказываю сам – о том, как получил горестное известие, как спешил на вокзал, ехал в поезде, плакал в тамбуре, как бежал через ночной лес…
Возвращаемся домой, пьем чай. Дома тихо и тепло, всё на своих местах, ничего не изменилось. Да и что могло измениться? Сидим с мамой на кухне, за столом, – и говорим, говорим…
Далеко за полночь кто-то стучит в окно. Ледяная дрожь мгновенно пробегает по моему телу, я сразу трезвею. Выхожу на улицу, словно в космос; мать за мною… Кто тут?
…озаренная сбоку слабым зеленоватым светом месяца, в черной тени сарая горбится чья-то фигура.
– Дай Феликса помянуть! – глухо требует пропитой женский голос.
– Нет!.. нет, не надо ее, я ее знаю, – шепчет мать гневно, – это пьянчужка местная. Ходит, просит… иди, иди отсюда!
Фигура молча поворачивается и бредет к калитке.
– Нет, нет, стой! – кричу я отчаянно. – Сейчас, сейчас дам помянуть!..
– Не надо, не надо! – хватает мать меня за рукав.
– Ты что, – яростно шепчу я, – не дай Бог! Ни в коем случае! А вдруг это… ты что? Это Бог посылает, нельзя!
Опрометью метнувшись в избу, подскакиваю к холодильнику, наливаю стопку водки, хватаю кусок хлеба и возвращаюсь на улицу.
– Помяни, помяни папу, – со слезой говорю я. – Помяни Феликса Михайловича!
– Ничего не Бог… – ворчит мать, уступая. – Всяким подавать…
«Синюшке» охота поговорить. Долго рассказывает о своем сыне, тянущем очередной срок, то и дело благодарит меня, обдавая перегаром. Наконец, уходит восвояси – и я, облегченно вздохнув, запираю двери. Мать ворчит; но я нисколько не сомневаюсь, что это был знак от папы, своеобразная проверка. И я ее выдержал – поступил так, как непременно поступил бы он сам в подобной ситуации.
Измученный тяжким днем, ложусь на отцовскую постель. «Папа, приснись, – шепчу в темноту, – приснись мне. Как ты там, папа? Приди ко мне, расскажи… папа, милый…»
…серый сарай-дровяник, тусклый свет из засаленного окошка; за окошком – груда бревен, на бревнах – черная собака. До собаки метров пять-шесть.
«А ведь я могу коснуться ее руками, не вставая с места», – мелькает в моей голове. Но не руки, а две гудящие, вибрирующие силы выходят из моих плеч, легко проникают сквозь стекло, движутся к собаке…
Собака исчезает. Но я уже понял, каким свойством теперь обладаю. А ну-ка, еще раз… Вон деревце растет за окном – смогу ли я заключить его ствол в кольцо моих пальцев?
И вновь мои «руки», – две вибрирующие мощные струи, – гудя, проходят сквозь невредимое стекло, и я смыкаю свои кисти вокруг тонкого ствола.
Значит, я могу… всё? И – летать?
Лежу на спине, – нет, не лежу, а лечу куда-то, головой вперед, подхваченный могучим потоком. Мое тело – конусовидный, еле слышно гудящий, вибрирующий цилиндр длиной метра три-четыре и диаметром около метра – этакий могучий катер, послушный малейшему моему желанию.
«Ну, вперед…» – думаю я.
И стремительно возношусь, словно на качелях, – вперед и вверх, наискосок, легко проходя сквозь потолок и стропила крыши, – вперед, в ночную тьму…
И тут же ужас охватывает меня. А вдруг я не сумею остановиться и меня зашвырнет в неведомую глубину, в дальний мрак?.. Стоп!.. Назад!
Могучие качели швыряют меня обратно – сквозь темную даль, сквозь стропила и потолочные бревна… Да, я могу летать! – сквозь всё на свете, на тысячи километров, куда захочу… Что же это такое?.. кто я?
И вот опять меня несет куда-то… куда? Куда-а-а-а-а…
Просыпаюсь от собственного хриплого крика – и рассказываю сон дремлющей на соседней койке матери, – чтобы не забыть утром. А в голове стучит: так вот чем ты занят, папа… Ты осваиваешь новое тело, новый мир. Тебе сейчас не до нас, у тебя другие проблемы, ты родился для новой жизни…
И все-таки на мгновение ты убрал дремучую стену времени и показал мне, как там, и что. Спасибо, папа, теперь я знаю…
Если хоть одна из моих дочерей будет после моих похорон сильно жалеть обо мне, будет плакать и, засыпая в слезах, попросит меня придти – я тоже непременно это сделаю. Изловчусь, упрошу, умолю – но уберу проклятую стену и покажу дочери что-нибудь из той жизни… Пусть знает, что небытия – нет!
Небытия – нет, есть только боль перехода, муки нового рождения, страх перед новым, непонятным и опасным миром, в котором придется быть. Но ведь таких миров, быть может, мириады… Так что же – каждый раз, переходя из одного в другой, мы обречены кричать от ужаса, представляя, что падаем в бездну небытия?
Нет, – это удел не знающих, удел бестолочей, ничему не учащихся и не желающих учиться. Брошенные в очередную судьбу, они вопят и жалуются, не умея ее принять, не умея понять, за что она им дана, за какие и чьи грехи и ошибки. А ведь интуитивно они, наверняка, чувствуют, что послужило причиной. Почувствовать очень легко: это – там, где больнее и труднее всего, где страшнее всего. И вот, вместо того, чтобы, смирившись с данной, исходной позицией, двинуться по грязной и тяжкой дороге вперед, к свету, – они опускают руки и ждут смерти. Но смерти нет, просто их отбрасывает всё дальше и дальше во мрак, унижение и боль…
Мне ли кидать в них камни? Я ведь и сам только сейчас, ближе к сорока годам, прихожу к этим мыслям – и даже до сей поры сомневаюсь в них. Но моя жизнь, чем дальше, тем чаще, полнится подтверждениями именно этих идей, – идей бессмертия души, идей существования греха и воздаяния за грех, – и как же не поверить опыту жизни? Чему же тогда верить – чьим-то словам, книгам? Но ведь это – чужой опыт! А верить можно только своему…
Жизнь идет; на другой день я уезжаю к себе в Ярославль, оставив маму на попечение Андрея, взявшего двухнедельный отпуск. И – урывками, между еженедельными поездками по своим коммерческим делам и выполнением роли няньки при полуторагодовалой Дарье, начинаю писать эту повесть. Со смертью отца во мне рухнула какая-то преграда, не позволявшая ранее взяться за это, и я пишу – вечерами, ночами, по утрам, в любую свободную минуту. Пишу, рву написанное, снова пишу, снова рву, переписываю… Постепенно устанавливается стиль – вот этот, петляющий, то и дело убегающий в сторону, – стиль реки. Через какое-то время я осознаю жанр будущего сочинения – это будет нечто в духе «Старомодной истории» Магды Сабо или катаевского «Кладбища в Скулянах», – но другое, со своими акцентами и своей сверхзадачей.



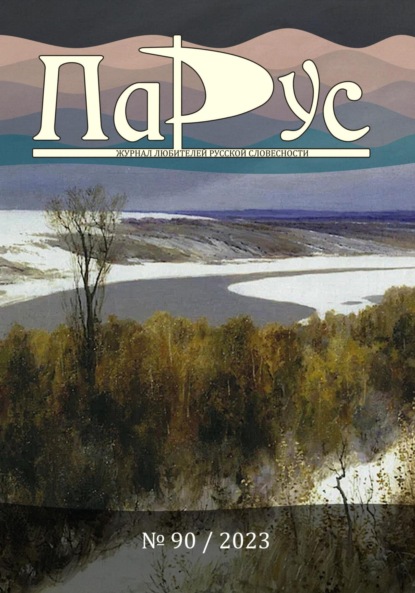




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0