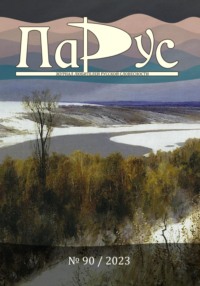
Журнал «Парус» №90, 2023 г.
Выбрав подходящее место чуть ли не посредине реки, отец расчистил валенками снег и, высоко подняв тяжелый лом-пешню, что есть силы ударил по темному зеркалу. И еще раз. И еще…
Словно молния врезалась ему в грудь! Бросив лом, он упал лицом в снег, выпучив глаза и открыв рот, с ужасом осознавая, что эта боль – не чета прежним: угрюмая, тяжкая, смертная боль.
Медленно-медленно, тихо-тихо, слушая свое дыхание, встал он через полчаса с колен, держа обеими руками, как минёр, свое ржавое сердце, – и побрел назад, ставя ноги в уже наполовину заметенные сухой снежной крупкой следы…
…папа, я бреду за тобой назад, я ставлю свои ноги в твои следы, я хочу узнать, какая это была боль, какая жизнь…
Но смогу ли я узнать истину? Быть может, мне откроется лишь внешняя цепь событий – документальная ложь, правдоподобный бред. Стены, отделяющие «сегодня» от «вчера», высоки и дремучи, даже ближние кусты полны злобного шипенья и треска, и нет попутчиков на темном пути в прошлое.
Сокрыто и «завтра». Один-единственный раз мелькнул вещий огонек на высоком берегу неведомой реки, один только раз вздрогнул, закачался и ушел под воду шаткий плот моей судьбы – была возможность задуматься, обеспокоиться и хотя бы попытаться что-то изменить в неотвратимом течении жизни. Но нет: я, страшно мнительный и суеверный человек, не сумел не только истолковать пророческое видение, но даже и понять, что оно – пророческое.
Отвел Господь! А ведь, может статься, истолкуй я сон правильно и предупреди столь же суеверную мать, надоумь ее не спускать глаз с человека, лежащего теперь на веранде со связанными руками и ногами, – и всё случилось бы иначе, не так, не теперь…
Но я только очнулся с колотящимся сердцем, включил свет, нашел карандаш, накарябал на листке бумаги несколько рваных предложений и, оттолкнувшись шестом от берега, поплыл куда-то по медленной темной реке на погрузившемся в воду ненадежном плотике.
А маме был сон еще раньше – за три с лишним месяца до случившегося. В ночь на 14 февраля ей привиделась Дивная гора – селение под Угличем, где без малого сорок лет тому назад она, учительница тамошней восьмилетки, совсем молоденькая, но уже имеющая опыт и преподавания, и самостоятельного существования вдали от родителей, уже пережившая первое серьезное чувство (Петр Иванович Мельников, сын полковника авиации, ты помнишь Нину Ковалькову?) испытала острый приступ сострадания к полузнакомому, в общем-то, парню, Феликсу Чеканову, только что ставшему инвалидом…
– Хрен ли встал?.. давай!.. – заорал Васька Галактионов.
Мой будущий отец, только что «резнувший» вслед за напарником еще полстакана водки, мрачновато покосился в Васькину сторону, но ничего не ответил. Взяв из груды неокромленных досок верхнюю, он поставил ее торцом к завывающему ножу циркулярной пилы и толкнул «на ход». Заверещав еще пронзительнее, темное солнце ножа стало медленно отваливать кромку доски, отец же двинулся помаленьку вперед, следом за доской, прижимая ее сверху ладонью правой руки.
Ваське, принимавшему доску с другой стороны, захотелось ускорить этот процесс. Он дернул доску на себя – и папина рука пошла под нож.
Опьяненное сознание все-таки сработало: в самый последний момент отец почувствовал неладное и отдернул руку. Но его пальцы уже летели и прыгали по трясущейся доске, словно городки, поднятые на воздух ударом биты. Васькин слюнявый рот изумленно открывался, истошно кричала пила, жизнь поворачивалась к Феликсу Чеканову неведомой прежде стороной.
Боли и крови не было. Он посмотрел на обезображенную руку, – большой и указательный пальцы отсутствовали, средний был разбит, – и громко, с оттенком какого-то злобного торжества, прокомментировал:
– Ну, всё – калека!..
– Я пожалела его… ой, как я, дура, его жалела! Ведь он пил страшно, валялся, где попало, со своей перевязанной рукой. А в школе-то как меня отговаривали: Ковалькова, опомнись, посмотри, в какую семью ты идешь…
…вот они, на старенькой фотографии с засвеченным краем, – мои мама и папа. Юные, улыбающиеся, глупые, еще не сказавшие друг другу тех слов, после которых в душах двух людей начинает медленно гаснуть серебристый вибрирующий звук – голос свободы, знак возможности всё переиграть, свернуть в сторону с открывающегося пути… О, тончайшее пение серебряной струны!.. о свободная воля!.. о, невозможность уйти от неизбежного!..
Веселые кудряшки мамы, светлая блузка, темная юбка, корзинка с грибами. Небрежная поза отца, залихватски нахлобученная черная шляпа, забинтованная культяпка, лежащая на цевье одностволки. Нет, это еще не мои мама и папа, это просто двое молодых русских людей в середине 50-х годов двадцатого столетия от Рождества Христова. Они улыбаются, они позируют – а Нина Баранова всё щелкает и щелкает затвором своего «Зенита», всё хохочет и подмигивает подружке, уже начинающей сердиться на такое бесцеремонное подчеркивание ее чувства.
Чувства жалости…
…ей привиделось то место на Дивной Горе, тот склон маленькой речки, где они, бывало, сиживали вдвоем, устав собирать грибы. Лето, начинающее желтеть, тонкий, еле слышимый звон серебристой струны, – всё то же самое. Вот только они с папой – уже немолодые, пожившие, теперешние. И внизу, поодаль, в траве лежит дитя – плотно запеленутый ребенок. Оттуда, из белых младенческих одежд, доносится до матери ясный печальный голос:
– Вы расстанетесь…
– Мы знаем, что мы расстанемся, – отвечает мать. – Но и вы расстанетесь…
На этом видение обрывается, и мать просыпается в своей постели, в доме номер пятнадцать по улице Новой – шестидесятилетняя, мучимая болезнями и предчувствиями. И долго слушает жалобный вой февральского ветра, изредка прерываемый тяжелыми всхрапываниями мужа, спящего на соседней кровати. И долго гадает, к чему бы такой сон.
И не догадывается.
– Теперь я думаю, – говорит она неуверенно, глядя на меня голубоватыми выцветшими лепестками, – что это была ваша Олечка. Или сестра Феликса, Галя. Это они умерли во младенчестве. Которая-то из них предупреждала меня. А я, дура, не поняла. Это, наверное,
была твоя Олечка…
Олечка?
Окно больничной палаты. Белый беспомощный силуэт моей жены. Отчаяние в
родных глазах. Маленький – не больше метра – гробик у меня подмышкой. Небольшая грудка карминно-красного месива на столе патолого-анатомического отделения…
Да, мы тоже расстались…
Или это была другая маленькая девочка? стоящая на подгибающихся годовалых ножках посреди распухшего от голода сорок третьего года, обмотанная тряпьем, зареванная, замурзанная, тянущая исхудалые маленькие ручки к пустой материнской груди, – Галя, умершая во младенчестве сестренка моего папы, Галя Чеканова…
Господи, я знаю: ты упокоил их невинные душеньки, поселил их навечно в зеленом саду, среди птиц и цветов… Иначе – Тебя нет!
Нет!..
Мама не сумела разгадать ни этот свой сон, ни другой, тоже пророческий. За неделю до смерти папы она почему-то несколько дней подряд вспоминала председателя сельсовета с Дивной Горы, Александру Павловну Волохонову, доброго и справедливого человека, – и ей приснился сын Александры Павловны, Володя. Приснился таким, каким мама его помнила по Дивной Горе, – двадцатилетним, только что вернувшимся из армии. Он сказал ей:
– Еще два-три дня…
На этом сон-мгновение оборвался – и мама, проснувшись, истолковала его так: Александра Павловна тяжело больна и до конца ей осталось совсем немного.
«Боже, облегчи ее последние страдания», – мысленно попросила она.
Но сон предвещал иное…
…но почему же все-таки именно Дивная Гора вспоминалась ей в эти дни? – именно то место, где они впервые встретились с папой. Быть может, перед концом чего-то память всегда возвращает нас к началу?
_______________________________
Наскоро завтракаем. Я с беспокойством начинаю осознавать, что времени – в обрез, а у нас нет ни гроба, ни досок для него, ни обивочного материала, ни, самое главное, – мастера. А что, если соседи не смогут помочь? На дворе – теплынь…
– Мама, не вздует у нас его?.. покойника-то…
– Не должно бы, – неуверенно отвечает мать. – Там, на веранде, прохладно. И марганцовки мы с Тамарой под стол поставили. Говорят, еще соль на живот кладут. Давай-ка, насыплем в мешочек…
Входят соседки: врач Тамара Борисовна, учителя и воспитатели санаторно-лесной школы Люба, Вера, Галина Яковлевна. В разговоре всё становится на свои места. Оказывается, дядя Миша, лучший местный мастер, обещал всё сделать – вот только бы он сумел вовремя «отойти от вчерашнего». Ну, а уж ежели он не проспится – тогда за дело возьмется Баруздин. Красного сатина для обивки гроба нам тоже обещали дать – правда, с возвратом, но и то хорошо, ведь в магазине ничего подходящего нет. Могилу будут рыть четверо – Сергей Вахромеев, тот же Баруздин и еще двое местных мужиков. Венки соорудят сами соседки, из лапника. Директриса местного продмага обещала продать на поминки водки по старой цене и чего-нибудь к столу.
«Господи, люди, дай вам Бог здоровья, какие же вы все хорошие, – растроганно думаю я, – Все-таки, деревня – не город, не эти скоты, всюду видящие только одно – выгоду…»
…заплаканный, всклокоченный, очумевший от страшного известия, бегу я по своей городской улице по направлению к вокзалу. До отхода ленинградского поезда остаются считанные минуты, даже бегом я не успеваю.
Голосую. Визг тормозов.
– Ребята, – задыхаясь, прошу я. – несчастье у меня. К вокзалу, а?
Ребята медлят. Их двое – молодые, спортивные, современные. В салоне звучит ритмичная музыка, в такт ей на цепочке покачивается пластмассовый чёртик. Выждав, ребята меланхолически осведомляются:
– Сколько?
Спустя секунду мы мчимся к вокзалу: цены мне известны, деньги у меня есть…
«Сколько»? Тысячу лет в геенне огненной, тысячу тысяч лет, – покуда ваши шкуры не станут тоньше настолько, что смогут чувствовать чужую боль.
Вот сколько!
Конечно, тут, в деревне, не всё так уж благостно – и здесь хватает всякого, в том числе корыстного, жестокого, злого. Но, при всем том, деревенские люди – другие. Что-то заставляет их, – Любу, Веру, Тамару Борисовну, Галину Яковлевну, их мужей, владелицу сатина, директора магазина и еще добрый десяток незнакомых мне мужчин и женщин, – не остаться безучастными к нашей беде, не оставить нас наедине с нашим горем.
Традиции? Далеко заглядывающий практицизм? Наверное, не без этого. Но важен результат: эти люди – другие.
Я не призываю разрушить город. Но я ощущаю потребность констатировать факт.
__________________________________
Дяди Миша «не отошел» – и Коля Баруздин, крепыш лет сорока, принимается за дело сам. Он приносит со своего подворья в папину мастерскую несколько досок, мы опиливаем их по размеру, и Коля тут же берется за рубанок. Вскоре в мастерскую заглядывает другой сосед, седой и суховатый Юрий Федорович из дома напротив, – и предлагает кромить и фуговать доски в его мастерской, на более мощном станке.
«Всё делается»… Я, само собой, на подхвате, подай-принеси. Суечусь, стремясь, по возможности, избавить мастеров от черновой работы. Часа через два в дверях появляются первые родственники – брат мамы Володя и муж ее покойной сестры, Саша Волгин. Поздоровавшись и постояв в проеме, они тихонько уходят, а мы продолжаем сооружать гроб.
Баруздин строгает так истово, что весь наливается кровью. Самый близкий сосед (дом его стоит через дорогу), он был здесь, в Глебово, одним из самых близких отцу людей, частенько захаживал к папе в мастерскую, они часами могли беседовать о житье-бытье, о политике. Папа нуждался во внимательном собеседнике, а Коля за интересным разговором перенимал еще и кой-какие хитрости столярного ремесла. Имел место и прямой «бартер»: Баруздины иногда снабжали моих родителей мясом по сходной цене, а папа сделал им прекрасные наличники и, кроме того, украсил фронтон соседского дома такими же удивительными деревянными птицами, какие глядели на прохожих из-под крыши его собственного…
…птицы – отцовская любовь. Он знал их по именам, он отыскивал в книгах их цветные изображения и сравнивал с теми, что прилетали под окно.
– Смотри-смотри, – кричал он матери, – вот это синичка-гаичка! Видишь? Гаичка!
Он рисовал птиц цветными карандашами в альбоме, писал маслом на фанерках, выпиливал лобзиком. Он сам был птица – бойкая, любопытная, интересующаяся всем на свете, любящая перелетать с места на место, птица-путешественница.
Но вот какая птица?
Как ни горько мне это осознавать, но – не щегол, не снегирь; скорее всего – ворона. Да, ворона – бедно одетая, крикливая обитательница свалок и помоек. Ведь именно она сидела на зеленых ветках той березы, в роще у деревни Ивановское, наблюдая за нашей печальной трапезой у свежевырытой ямы…
Но эта ворона была не такая, как все!.. под смирным своим одеянием она таила жемчужно-пестрый, переливчато-ослепительный мир, она была чужой в черно-серой стае товарок, она глядела со своей помойки не в сторону другой помойки, а прямо в голубые небеса!..
День клонится к вечеру; гроб, наконец-то, закончен – и мы несем его на веранду, примерить. Получился тесноват – тело отца еле-еле умещается в нем. Но это еще полбеды; беда – мелка крышка. Сооружая ее, мы не учли, что руки покойного, сложенные на животе, своими кистями образуют холмик, и что этот холмик – окостенеет. Если бы руки лежали вдоль тела, крышка легла бы в самый аккурат, а так – мелка. А ведь, вроде бы, перед началом работы всё измеряли, прикидывали. Век живи – век учись…
Что же теперь делать? Сгоряча я беру лежащую сверху отцовскую руку (смертный холод ощущается уже и через рубашку) и с силой тяну, пытаясь развалить холмик плоти. Не тут-то было!.. рука лежит на том же месте, не подвинувшись ни на миллиметр. Тяну сильнее – напрасно…
…мертвец сильнее меня!
…он и живой был сильнее. Я никогда не дерзал схватиться с ним всерьез – папа изломал бы меня. Ничего удивительного: он много работал физически, мускулы у него были литые. А я… что ж, тщедушный домосед, книжный червь…
Вот почему у меня рождаются одни только дочки – дабы приять силу со стороны. Наша родовая сила уже истощилась.
По крайней мере – во мне.
Крышку гроба приходится наставлять, на это уходит еще часа полтора. Наконец, обив гроб изнутри белой материей, а снаружи – красной, Баруздин с Юрием Федоровичем удовлетворенно отправляются по домам. Я наклеиваю на наружную сторону крышки вырезанный из черной фотобумаги православный крест, выношу ее на улицу и прислоняю стоймя к углу дома. Теперь издалека видно, что в доме – покойник. Таков обычай.
Слава Богу и спасибо добрым людям – проблема с гробом отпала.
Ни Юрий Федорович, ни Коля не взяли за работу ни копейки денег. Мы с мамой, конечно, и не предлагали, боясь обидеть. Но я точно знаю – они бы не взяли. Ведь это не город. Это, слава Богу, русская деревня…
________________________________
Снова – утро… Идем с мамой по цветущему майскому селу, среди чистой зелени и веселых, сияющих на солнце изб, переходим из проулка в проулок, спускаемся в глубокий овраг, перебираемся по дощатому мостику через ручей, поднимаемся по крутому склону. Это уже не Глебово, а Ивановское (практически сросшееся с Глебовым, но сохранившее отдельное название). Где-то здесь живет смотрительница кладбища, она должна показать нам место для рытья могилы. Маме примерно объяснили, где ее дом, но точно она не знает.
На улице – ни души, спросить не у кого. В растерянности стоим мы на пыльной дороге под горячим солнцем; затем мать нерешительно указывает на один из домов: кажется, тут… Я подхожу к калитке, дергаю за ручку – заперто изнутри. Кричать хозяевам? Неудобно… Иду к другому дому – та же история. Что же нам делать? Третий дом. Открываю калитку – и тут же прыгаю назад: по дорожке прямо на меня молча мчится здоровенный пёс-волкодав… Ничего себе, шуточки!
– Вам Нину Александровну? – кричат с огорода хозяева пса. – Это не сюда, а во-он в ту избу! Вы не бойтесь, там собаки нету…
На слабых ногах иду прочь, мать следует за мной.
– Как ты испугался-то, – говорит она удивленно, – побелел аж весь…
У «той избы», где живет смотрительница, бродит маленький мужичок лет тридцати, с пробивающейся кой-где бороденкой и выражением явного слабоумия на круглом лице. Увидев нас, он уклончиво улыбается и подмигивает; встретив прямой взгляд, косится в сторону. Я приглядываюсь к нему – и второй раз за сегодняшний день по моей спине пробегает холодок: дурачок чем-то неуловимо напоминает папу.
Да-да, те же очертания носа и губ… но главное – в прищуре глаз, в манере морщить лицо… Господи, что это? Кто это?
Во двор выходит ветхая старушка – и долго выспрашивает нас, кто мы такие и откуда. Удостоверившись, что всё в порядке, берет с завалинки падожок и кличет мужичка:
– Женька, пошли!
И опять я внутренне ахаю: его зовут так же, как и меня… А старушку – так же, как и мою мать… Что всё это означает? Неужели могут быть такие совпадения?.. а может быть, это какой-то знак мне, какое-то знамение? Но какое? К добру или к худу?
Увлеченный этими мыслями, бреду я позади всех, рассеянно прислушиваясь к разговору матери и смотрительницы. «Женька» – взрослый сын Нины Александровны, еще мальцом ребятишки бросили его в воду, с тех пор он не в себе. Пенсию она получает мизерную, живет тем, что дает свое хозяйство, да вот добрые люди помогают… («Мы вам дадим денег, дадим», – вставляет мама). Земля на этом кладбище хорошая, легкая, лежать будет хорошо, а копать надо на полтора метра, не больше. Места свободного много, в разных углах можно подобрать что-то подходящее, в последнее время хоронят частенько, всем надо угодить, всех проводить, показать, а уж годы не те, восемьдесят с лишком, но пока что Бог милует…
…певучий голос старухи обволакивает, с яркого неба брызжет огонь, сморщенное лицо
моего отца улыбается, подмигивает мне, – и дикие, древние мысли гуляют в моей голове.
– Папа, это… ты?
Он кивает, он подмигивает, он насмешливо косится на двух старух, идущих впереди: вот дурочки, ничего не понимают… но мы с тобой понимаем, верно? Только ты им не говори, будем знать это только ты да я, хорошо? Всё не так просто в этом мире, все совпадения не случайны, Женька, хорошо, что ты узнал меня. А эти-то… хе-хе-хе… они-то думают… ой, не могу, хе-хе-хе… но молчок, Женька, молчок!.. пусть об этом никто не знает…
И снова он косится в сторону, снова отводит взгляд, и снова оборачивается – смеющийся, щурящийся от яркого солнца…
Я кладу на себя крестное знамение – и страшным усилием воли стряхиваю морок. Ничего особенного не происходит. Двое женщин и двое мужчин идут по дороге к деревенскому кладбищу, светит солнце, жизнь продолжается, идиот хихикает…
…и огромные радужные круги плывут, медленно расползаясь, в его мозгу, и солнце, пробившее толщу воды, слепит судорожно выпученные глаза, и нечем дышать – и откуда-то издалека, с планеты Земля, доносятся испуганно-веселые крики мальчишек…
Вот здесь будет твое место, папа. Не в мерзкой загородной тесноте, среди ощетинившихся оград, под ядовитыми тучами, – нет!.. на высоком берегу великой русской реки, под всё еще голубым небом, в звенящей зеленой роще, у подножия белой березы. Птицы, любимые создания твои, будут свистать над тобой, легкие сухие ящерки будут греться на солнышке рядом с твоим холмиком, комары – звенеть… всё кругом будет жить. И скоростное шоссе останется в стороне.
И никогда не взойдет над тобой проклятая пятиконечная звезда.
«Да брось ты, Женька, – слышу я его голос, – какая разница, звезда ли, крест ли… Не верю я в эти символы. Я Пушкину верю:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять!
Вот вся правда, Женька, а больше ни хрена нету…»
___________________________________
После обеда идем с матерью за продуктами для поминок. Черный платок действует безотказно: мать всюду пропускают без очереди. Продавщица ведет нас в подсобку, мы берем мясной фарш, хлеб, водку, конфеты, расплачиваемся и благодарим. Провожаемые шепотком и взглядами женщин из очереди, выходим на улицу.
Мать удоволена: всё идет как надо, в грязь лицом она не ударит. Горе – горем, а дело – делом. Эта черта – «ковальковская»; Чекановы – люди прямо противоположные. Нам – вмазать стакана два, рыдать и петь песни…
Впрочем, я преувеличиваю, конечно, столь резко отделяя ментальность представителей отцовской ветви моего рода от склада ума и души моих предков по материнской линии, явно утрирую, называя первых неисправимыми фантазерами, а вторых – сухими рационалистами. Такое деление, конечно же, условно, ибо опирается на произвольно сохраненные моей памятью эпизоды, а не на весь объем действительно происшедших в жизни событий.
И все-таки основа для такого произвола существует… Иногда я думаю, что причина этих отличий может быть такой: Чекановы, в отличие от Ковальковых, уже прошли стадию «рацио», стадию «умения делать жизнь», им интересна уже следующая ступень – «отражение», то есть изображение жизни. Они желают быть художниками, а не просто обывать свой крест…
Появляется мой брат Андрей. Он. как всегда, замкнут, углублен в себя. Побывав на веранде, возвращается точно таким же, каким входил туда; видимо, всё, что должно было произойти в его душе, уже произошло.
Известие о смерти папы застало его, как я и предполагал, на даче у тещи: сестра его жены принесла телеграмму прямо в поле…
День длится. Помогаем матери по хозяйству, обсуждаем план похорон. И всё время вслух вспоминаем папу – его поступки, слова, привычки. От этого нам как-то легче, извинительней перед покойным.
Волгина и Володи Ковалькова нет с нами – они, как выяснилось, были здесь с оказией: из Рыбинска в Глебово ехал какой-то знакомый Волгина, он и прихватил обоих. Заглянув в дом и убедившись, что мать уже не одна, они уехали обратно, посулив явиться прямо на похороны. Волгин, правда, обещал прибыть пораньше, привезти самогону и свежих огурцов с рынка.
То и дело забегают соседки. Одна говорит, что принесет яичек, другая – сметаны, третья даст на время поминок скамейки, стулья и посуду (ожидается человек тридцать, а мамина наличная утварь не рассчитана на такое многолюдье). Каждая соседка, заходя, считает своим долгом сказать что-то доброе о покойном, вновь пожалеть о безвременном его уходе, припомнить и повторить запомнившиеся ей его слова. Всё это – очень искренне, никакой фальши не чувствуется.
Все-таки папа, при всей его импульсивности и непредсказуемости, был в целом очень дружелюбным, открытым, добрым человеком. И это очень облегчает нам теперь его похороны: все идут нам навстречу и всё у нас получается…
…или это он сам, хорошо зная, что всё новое поначалу представляется нам неразрешимой проблемой, взялся «оттуда» руководить и этим, – печальным, но необходимым, – делом?
Не знаю, как оценивает себя Андрюха, а я вот смотрю на себя так: в сравнении с отцом, я – сущая бестолочь. Папа знал плотницкое и столярное ремесло, рубил избы, слесарил, профессионально фотографировал, неплохо рисовал, писал маслом – даже стихи пописывал! – а я из всего этого умею делать более-менее хорошо только последнее. Ну, еще умею править чужие тексты и редактировать газеты – но разве это профессия? Кому это нужно?
Если бы мой отец, упаси Бог, попал однажды в тюрьму – он бы и там не пропал; а что стало бы в таком случае со мной? Страшно и помыслить…
Распространено мнение, что все дети считают себя умнее и талантливее отцов. Ничего подобного!.. я уверен как раз в обратном. Мой отец просто не осуществился, не реализовал своих потенций. Если бы он получил хотя бы мое, – никудышнее, провинциальное (в дурном смысле этого слова) образование, если бы имел мое (сытое, обутое, одетое) детство в полной семье – кто знает, каких высот он достиг бы…
Конечно, ему недоставало терпения и усидчивости. Но это фамильное: мой дед, Михаил Андреевич, был таким же – горячо брался за любое новое ремесло, осваивал его начатки, но никогда не доводил до совершенства, быстро остывал, бросал начатое на полдороге. Однажды, в молодости, он решил научиться плести корзины. Изучил основные приемы, начал даже конструировать новые модели, но до ума дело так и не довел. В результате на чердаке избы скопилась, согласно семейному преданию, целая гора недоплетенных корзин…
Эти «недоплетенные корзины» – символ наших натур. Это – сами мы, Чекановы!..
…любопытно, что другой мой дед, отец мамы, Александр Иванович Ковальков, был как раз профессионалом-плетушечником. Плел корзины на заказ, на продажу, плел сотнями, если не тысячами.
Ковальковы вообще склонны к постоянному, кропотливому труду – и на саму жизнь смотрят как на такой труд. У Чекановых же другой идеал: придти, увидеть, победить!

