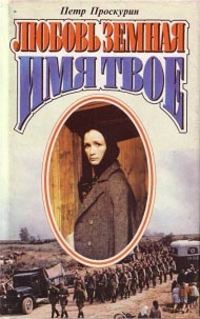
Имя твое
В два шага оказавшись у стола, Алдонин извлек из оттопыренных карманов две бутылки водки, шлепнул одну за другой на стол; Танюха, сидевшая до сих пор недвижно, с низко опущенной головой, ни на кого не глядя, выбралась из-за стола и выскочила в сени.
– Эх-хе-хе-хе! – протянул Фома, только теперь начиная понимать суть происходящего, и любовно щелкнул ногтем по горлышку тускло блестевшей бутылки. – Ничего! Ничего! Дело законное! Житейское дело! Божеское дело! Природа! Ну, давай, мать, стаканы, давай!
На столе появились спешно нарезанное крупными кусками сало, хлеб, зашипела свежезажаренная яичница; сковырнув ногтем пробку от бутылки, Фома, зорко щуря глаза и наклоняя голову, любовно разлил водку по стаканам; девок не было, приносившая сало и жарившая яичницу Нюрка, примостившись с краю стола, со смутным опасением украдкой приглядывалась к Алдонину, так как в Густищах он давно слыл человеком с чудинкой и никто не мог бы сказать, что он выкинет через минуту; она никак не могла поверить всерьез, что Алдонин пришел свататься, хотя давно знала, что Танюху с самой весны не раз видели с ним на гулянках, да и приходила она домой чуть ли не к третьим петухам, хотя и сама она, Нюрка, и Фома не раз грозились выдрать ей бесстыжие космы и ославить на все село. А с некоторого времени цепкий по-бабьи Нюркин глаз стал подмечать, что, несмотря на скудный харч, старшая дочка вроде бы день от дня наливается полнотой, и Нюрка уже не однажды намекала дочери на это; та все отделывалась шуточками, а последний раз, когда Нюрка вновь сказала, что, мол, тебя, Танюха, распирает, как на дрожжах, дочка зло и бестолково закричала, и Нюрка, отшатнувшись, лишь оторопело замахала руками…
Обо всем об этом и думала Нюрка, подкладывая Алдонину куски получше и уже проникаясь к этому чужому, непонятному парню родственной хворобой; уже она решила, что Алдонин из себя хорош, и лицо чистое, и зубы белые, и глаз веселый, хоть и плутовски подчас блестит, и телом-то вышел хоть куда, плечистый, длинноногий.
Фома, давно ёрзавший по лавке от нетерпения, поднял стакан.
– Берите, берите, – пригласил он остальных. – Со здоровьицем! Дай-то таких гостей почаще! Природа!
Чокнулись, Алдонин остро, со смешком, глянул в глаза Фомы, тоже пожелал здоровья да прибытку, и все выпили. Стесняясь и не зная, как приступить к нужному делу, Алдонин подковырнул вилкой кусок сала с проступившим на нем налетом старой соли, пожевал.
– Ешь, ешь, Кешенька, – потчевала его Нюрка ласково, не обращая никакого внимания на Фому, пытавшегося что-то сказать; наоборот, Нюрка все время останавливала мужа, но Фома, управившись с закуской и наливая в стаканы снова, из второй бутылки, которую он как-то незаметно для всех распечатал, в ответ на новый ласковый, но твердый окрик жены неожиданно засопел.
– Цыц, баба! – повысил он голос – Тут тебе не бабьи посиделки, что языком-то мелешь! Тут серьезные мущинские разговоры! Можно сказать, дело государственное решается! Природа!
– Замолол! С первого-то разу вкось дурака старого повело, – с досадой сказала Нюрка с извиняющейся улыбкой на лице, обращенной явно не к мужу, а к Алдонину.
Все так же весело поблескивая глазами, поглядывая то на Фому, то на Нюрку и словно явно к чему то все время прислушиваясь, Алдонин положил руки на стол, пошевелил пальцами.
– Пришел я к вам, Фома Алексеевич и Анна Дормидоновна, вот по какому делу, – начал он, и кожа на скулах у него зарозовела. – С вашей дочерью Татьяной Фомишпой случилась у нас большая любовь… пришел я к вам свататься. Хотим мы построить с Татьяной Фомишной совместную жизнь на законных порядках… Прошу я вас, Фома Алексеевич и Анна Дормидоновна, отдать за меня Татьяну Фомишну… вот и все мое к вам дело…
Охмелевший уже несколько Фома с явным удовольствием, даже слегка полуоткрыв рот, слушал непривычно вежливую и складную речь Алдонина, почтительно именовавшего все его семейство по имени-отчеству, а Нюрка, радостно всхлипывая, кивала, то и дело вытирая глаза концом платка.
– Кешенька, милый ты мой, дорогой, – справилась она наконец со своим волнением. – Мы что ж… да мы… коль промеж вас все оговорено, то мы куда ж…
– Ну, мать, дожили! – подал голос и Фома. – Дочка-то, а… вон уж как! А что? Пора! Девка, она товар такой, его на базар лучше недозрелым везти, а то кто же потом, когда киселем возьмется, глянет? Ну, Кеша, – протянул через стол Фома, – вот тебе мое отцовское согласие.
– Фома, Фома Алексеевич, постой ты, охломон некрещеный! – запричитала Нюрка, останавливая его, – Девки, девкм! – закричала она еще громче. – Верка, зови сюда сестру! О господи, да что ж это такое деется? Верка!
Верка, стоявшая в сенях и жадно подслушивавшая все, что говорилось в избе, и уже не раз бегавшая к ждавшей во дворе сестре и все торопливо пересказывающая ей, тотчас и появилась в дверях; скоро и Танюха со взволнованным румянцем во все лицо пробралась в избу, непривычно смело оглядев при этом отца с матерью, не скрываясь доверчиво и в то же время с некоторой тревогой, словно пытаясь угадать, все ли в порядке, улыбнулась Алдонину, и тот тотчас встал, подошел к ней, взял за руку и подвел к столу.
– Ну, вижу, вижу, согласие, природа, – сказал Фома, опустив голову, и с шевельнувшейся в сердце грустью перед неостановимостью жизни глухо скомандовал: – Мать, благословляй, что ли…
Перекрестив обоих, Нюрка торопливо сняла образ, дала поцеловать дочери и Алдонину; тот, помедлив, все-таки, скривив губы в сторону, приложился, брызжа из-под ресниц каким-то бесовским весельем.
– Аминь! Аминь! – твердила Нюрка. – Живите, детки, как мы с отцом прожили, в мире да в добром согласии (при этих ее словах Фома окончательно расчувствовался, потер тыльной стороной ладони глаза), детей вырастили. – Она неожиданно всхлипнула. – А сыночек мой милый Митенька так и не дождался такой ра-а-а-дости, сложил на проклятой войне свою резвую головушку…
– Цыц, мать, – тяжело приподнял брови сразу постаревший лицом Фома. – Цыц! Не убитый наш сын Митрий, он у нас тут, – сильно размахнувшись, он гулко шлепнул себя кулаком в грудь, – живой, он тут у нас! С нами вместе радуется сын наш Митрий!
Пересиливая себя, Нюрка закивала сквозь слезы, захлопотала вокруг стола, всех усаживая, выставляя из потаенных углов самые неожиданные запасы, и скоро на столе оказались и две немецкие алюминиевые, уже изрядно облупившиеся от зеленой краски фляги с самогоном, и бутыль с бражкой, и лежала горка вяленого карася, и приличный ломоть копченого окорока, и круг топленого масла, и соленый, хранящийся неделями творог, и какие-то соленья из грибов, чеснока и всякой травы; Фома, сроду не видавший и не знавший об этих диковинных запасах, только одобрительно ворочал глазами, глядя на метавшуюся то из избы, то в избу, к столу, жену с новой миской в руках; заговорившая в нем вначале легкая ревность скоро сменилась некоторой даже гордостью, что у него оказалась такая запасливая баба, не посрамила ни себя, ни его фамилии…
Теперь уже все уселись за стол, разговор пошел более степенный и деловой; еще и еще раз выпили, и Фома потужил, что по таким скудным временам нельзя сыграть свадьбу, как это от веку положено, в настоящем достатке; Алдонин, утешая его, весело ухмыльнулся.
– Ничего, папаша, зато мы крестины потом на славу отгрохаем, – сказал он, и Танюха, сидевшая с ним рядом строго и неподвижно, опять неудержимо закраснелась.
– Папаш, слышите, папаш! – загремел Фома. – Ай да уважил, сынок! Вот это уважил!
Фома вылез из-за стола, обнял будущего зятя, расцеловался с ним, затем, опять вспомнив погибшего старшего сына, отвернулся, махнул рукой и, скрывая непрошеную слезу, долго крутил цигарку, слепо глядя в стену и просыпая табак; у него все никак не получалось.
– Ты, папаш, на, папироску-то засмоли, – протянул ему пачку «Беломора» Алдонин, и Фома, затянувшись раза два, опять уселся на свое место.
– Как же вы жить-то собираетесь? – спросил он несколько погодя. – Давай к нам, что ль, сынок… не в общежитие жену вести… У нас одна девка теперь остается, надолго ли… Угол отгородим… а там…
– Я, папаш, рядом с вами думаю построиться… Вон усадьба чья-то рядом пустая… сад дичает…
– Это Антипа Косого усадьба… в войну семью как корова языком слизала… А, мать? А? – Фома резко вскочил на ноги. – Что? Задумка на все сто! Да мы… А, мать?
– Печь сам сложу, рамы свяжу, – перечислял Алдонин как нечто уже решенное. – Досок директор обещал, лесу тоже, на тракторе мигом приволоку… Э-э! С той недели дело и заварим, свадьба свадьбой, а дело своим путем…
В этот вечер свет в избе у Фомы горел, на диво соседям, далеко за полночь; обсуждали предстоящее обстоятельство, горячились и даже спорили. Самые любопытные из густищинцев бегали под окна Куделина посмотреть, что это такое у Фомы происходит, а наутро все Густищи уже знали, что тракторист Кеша Алдонин, тот самый, острого языка которого опасались от старого до малого, сватается за старшую дочку Фомы Куделина, через неделю назначено быть свадьбе и что привалило Фоме счастье невесть почему; правда, старшая девка у него выбухала видная из себя, вот только род все одно захудалый, и большого толку от этого ожидать нечего.
– А жених-то, бабоньки? – жужжала бабка Чертычиха у колодца. – Парень собой вроде справный, а в голове свистит… Ой, не знаю! Не знаю…
Одни ей поддакивали, другие молча посмеивались, но все сходились в том, что Кешка Алдонин человек затейливый, уж если что вычудит, скоро не забудешь. И всякий раз вспоминали общественного бугая Ветерка, у которого как-то на шее оказался намалеванный донельзя похожий портрет нового густищинского председателя Федюнина. Бугай с тем потешным портретом важно прошел на заре по всему селу в сопровождении целой оравы веселящихся ребятишек; если они приближались ближе, чем это допускало самолюбие Ветерка, он останавливался, оборачивал к ним острые рога и начинал яростно кидать копытом из-под себя землю. Тут хоть стой, хоть падай, и хотя никто бы не мог точно доказать, кто учудил такую штуку с бугаем, но все почему-то были уверены, что сделал это Алдонин, и потому сейчас, обсуждая будущую его жизнь с дочкой Фомы Куделина, строили самые невероятные предположения не только о предстоящей свадьбе, но и о будущем потомстве Кешки Алдонина; а бабка Чертычиха, снуя из избы в избу и захлебываясь от распиравшего ее волнения, рассказывала про свой вещий сон; разверзлась земля посреди улицы, и явился пропавший без вести сын Ефросиньи Дерюгиной – Иван. Явился, и пошел от него неостановимый огонь и сжег село.
* * *Мало, наперечет, было свадеб в первые послевоенные годы в Густищах и в окрестных селах, поэтому так и взбудоражились густищинцы по поводу Алдонина и Танюхи Куделиной; свадьба прошла, месяца за два с лишним, к первым морозцам, вырос в Густищах новый дом, правда, небольшой, но необычный, с какой-то террасой; ее Алдонин приделал вместо традиционных сеней, несмотря на протесты тестя Фомы; на высоченном сосновом шесте, прибитом к старой-старой раките, посаженной еще дедом сгибшего в войну Антипа Косого, укрепил Алдонин старое тележное колесо, чтобы на нем могла поселиться полезная птица – черногуз, как вполне авторитетно заявил Кешка своей озадаченной теще, и ловила бы эта птица по болотам и лугам лягушек и змей.
И зажила новая семья по извечным законам; всем стало видно, что этот сумасбродный пришлый тракторист любит свою жену и скрывать этого не хочет; как-то взял и стал целовать ее прямо посреди улицы; у Чертычихи, оказавшейся тут как тут, поблизости от них, от негодования подломились колени.
– Ах ты бессовестный! – плюнула она. – Поганец такой, нехристь! Хоть бы старых людей пожалел!
– Ничего, бабка! – весело крикнул ей Алдонин. – Небось лет сто назад сама еще и не такое размалинивала!
Чертычиха онемела и, не решившись продолжать разговор, скрылась за своим плетнем и там, присев на кучу хвороста, скоро пригревшись на скупом осеннем солнышке, задремала.
Все идет своим чередом: проскочила осень, прошла зима, ударили первые оттепели, а там и снег сошел с вершин холмов, обрушились в низины талые воды; все теперь стали замечать, что Танюха Алдонина ходит на сносях; сам Алдонин и его тесть Фома непременно ждали внука, и так как в Густищах в послевоенные годы родилось до этого всего три младенца, то к намечавшемуся появлению на свет еще одного густищинца (Алдонина понемногу стали считать своим) было приковано более пристальное внимание, чем обычно в таких случаях. Сам Алдонин, с утра до ночи пропадавший в поле или на ремонте, а то вечно хлопотавший по хозяйству (пристроил за зиму сарай для поросенка и кур, собирался делать подвал и потихоньку заготавливал для этого материал), оберегал жену в последние месяцы беременности, на диво всем Густищам, как малое дитя, не позволял ей ни воды принести, ни дров со двора, все сам да сам…
Перед самыми родами случилась у него с тестем крупная стычка. Заглянул Фома к зятю уже вечером, и тот пригласил его поужинать; оглядываясь на дочь, осторожно носившую отяжелевшее чрево по комнате, Фома извлек из кармана заветную бутылицу, подмигнул; Танюха заметила, но, ничего не сказав, поставила на стол стаканы. Алдонин и Фома выпили, потолковали о ранней весне, затем разговор само собой перекинулся на будущего внука.
– Мы его Алексеем назовем, – мечтательно предложил Фома, разливая остатки и не замечая насмешливо сузившихся глаз зятя.
– Почему же, папаш, Алексеем? – спросил Алдонин погодя.
– По деду, батьке моему, – миролюбиво пояснил Фома, забрасывая в рот кусок соленого огурца. – Отменный был человек, царство ему небесное…
– А у меня отца Прокофием звали, – вспомнил Алдонин и нехотя зевнул. – Тоже хороший был человек…
– Ну, Кеш, в другой раз будет тебе Прокофий, – примирительно согласился Фома, однако уже несколько иным, отвердевшим голосом. – Тут уж ты, сынок, уважь, старших уважать надо, уважь, уважь, природа…
– Ha том и стоим, – с готовностью вновь закивал Алдонин. – Хорошее будет у парня имя: Прокофий Кесаревич Алдонин! Сила, а, папаш?
– Как? Как? – искренне поразился Фома. – Ке… Ке…
– Кесаревич, Кесаревич, папаш, – с готовностью подсказал Алдонин. – У меня-то полное имя Кесарь, а так как новорожденный будет мне доводиться родным сыном, о чем твоя дочь, папаш, а моя законная жена… Таня! – внезапно позвал он. – Мой это будет сын или не мой?
– Отвяжись! Собрались старый да малый, делить-то еще нечего! Вот два дурака…
– Я тебя спрашиваю: мой это будет сын или не мой? – невозмутимо повторил Алдонин.
– Да твой, твой! – в сердцах ответила Танюха и, грузно, с невольной бережливостью колыхнув большим животом, рассерженно вышла.
– По справедливости, Кеш, внука назовем Алексеем! – Фома неожиданно размахнулся и увесисто шлепнул ладонью по столу; Алдонин с шальным огоньком в глазах тоже поднял руку, но, жалея собственноручно сделанный, до блеска отполированный дубовый стол, в последнюю минуту опустил кулак на столешницу вполсилы.
– Будущий внук твой, папаш, нареченный Прокофием, – совсем понизил он голос до ласковой хрипотцы, – выйдет в своего деда, моего отца – не прогадает. Попробуем, папаш, а?
В голосе Алдонина сквозила еле уловимая насмешка, и это окончательно вывело уже захмелевшего Фому из себя, он порывисто вскочил.
– Вот, значит, ты каковский? – поинтересовался он, прощупывающе, будто в первый раз, придирчиво оглядывая зятя с головы до ног. – Значатся, не хочешь уважить старшего родителя? Значится, только на свой аршин прикладываешь? Значится, никакого почету старшему родителю?
– Родителю почет и хочу оказать, садись, садись, папаш, не горячись, – попросил Алдонин.
– Не сяду, будь я проклят, не сяду, – кипятился Фома. – Не уважишь – нога моя больше в этот дом не ступит, вот тебе последнее мое слово, зятек мой Кеша!
– Значит, не ступит, говоришь, папаш, а? – продолжал свое Алдонин, в раздумье покачивая головой. – Нехорошо будет… нехорошо, папаш… Люди-то заговорят…
– Вот ты и подумай! – отрубил Фома, задерживаясь взглядом на остатке самогонки в бутылке, затем, словно решившись, выплеснул ее в свой стакан, стоя проглотил, задорно вытер губы ладонью и подтвердил: – Как свят бог, вовек не будет! Наплевать мне на людей, особо если эти люди бабы…
Чем бы эта перепалка кончилась, неизвестно, не появись Нюрка и почти силой не уведи продолжавшего бушевать мужа, но он и по дороге домой никак не мог успокоиться, все тянул голову назад, к дому зятя.
– Не будет! Не будет! – грозно повышал он при этом голос, и Нюрке приходилось увесисто встряхивать его за плечи и поворачивать лицом в нужном направлении.
– Иди, иди! – горячилась она. – Чего, чурбан старый, в чужую семью лезешь? Иди! Дочка – ветка обрубленная, назад ты ее не прирастишь! Иди, паразит, когда успел-то наглотаться?
– Цыц, баба! – пытался высвободиться из ее рук Фома. – Сказано, не будет ноги, значится, не будет! Природа! Слышишь, зятек мой дорогой Кешенька, не будет!
Фома действительно показал характер, с неделю не заглядывал к зятю и, еще издали завидев Алдонина, переходил на другую сторону улицы; тот только усмехался и приветственно приподнимал фуражку.
– Мое почтение, папаш! – кричал он весело, затем как ни в чем не бывало шагал себе дальше.
Фома крепился, продолжая не узнавать зятя, на все приставания и уговоры жены не срамиться перед людьми отвечал, что он этого своего приблудного зятя с поганым татарским прозвищем Кезарь все одно принудительной политикой допечет, докопает и на своем поставит, хоть бы ему пришлось ждать еще сто лет. Но как-то, уже ближе к рассвету, его разбудил шум и гам в избе. Ошалело открыв глаза, Фома приподнялся, успел заметить в какой-то неясной лунной полутьме полураздетую фигуру Алдонина, тут же куда-то исчезнувшую.
– Чего спать не даете, вы, оглашенные! – хрипло, спросонья, спросил Фома у жены, суматошно набрасывающей на себя юбку.
– Танюха рожает! В больницу-то не успели! – криком ответила Нюрка. – Верка, Верка, беги за бабкой Илютой! Зови, поскорей бы там была! А ты, старый чурбан, лампу хоть зажги!
– Вздумалось ей посреди ночи, – ладясь почесать себе нестерпимо зазудевшее плечо, проворчал Фома.
Нюрка мотнула подолом, еще раз наскоро обругала его и была такова; разыскивая спички и зажигая лампу, Фома успел окончательно очнуться, тут же вспомнил о кровной обиде от зятя и решил, что слова своего он не изменит, уселся назад на кровать, нашарил под подушкой кисет и стал крутить самокрутку, но уже через минуту, едва успев затянуться горьким дымом, беспокойно закрутил головой, словно что отыскивая в избе, а еще через минуту уже торопливо надернул на себя штаны, кое-как застегнул их и, упав на пол на колени, торопливо заглянул под кровать, отыскивая куда-то девшийся башмак. Не нашел, побегал по избе в одном, неровно топая, затем энергичным взмахом ноги отшвырнул подальше единственный, оттого и ненужный, и заторопился к зятю босиком. Дальше сеней его не пустили, везде суетились бабы, кто-то жутко выл. У Фомы от такого воя стало обрываться сердце, но внезапно наступила тишина, и Фома различил рядом с собой Алдонина в одном белье, в наброшенном поверх него пиджаке. Непрерывно прислушиваясь, Алдонин стоял с испуганным, чужим лицом. Фома пожалел его и сунул в руку давно погасшую цигарку; Алдонин взял, почему-то понюхал, бросил на землю и машинально растер подошвой.
– Малец дробненький, – донесся из избы, из-за неплотно прикрытой двери, в наступившей тишине тонкий и ласковый голос бабки Илюты.
– Сын, – догадался Алдонин, бросаясь к двери, к резкой полосе света, льющегося в оставшуюся щель и смутно размывающего тьму в сенях, но тут же, вспомнив, что его недавно безжалостно выставили из избы и настрого запретили подходить и близко к роженице, подался назад. – Прокофий явился, – добавил он и, совершенно не зная, что ему еще делать, обнял тестя и крепко прижал его голову к себе. Стиснутый молодыми, сильными руками, Фома, заражаясь радостью зятя, в свою очередь обхватил Алдонина, и они, оттаптывая один у другого ноги, тискали друг друга, пока из избы до них не донесся какой-то странный шум, возгласы, затем опять раздался измученный крик роженицы, уже потише, затем удивленные возгласы баб, бывших в избе, и скоро бабка Илюта все так же невозмутимо, тихо, но теперь с некоторой даже торжественностью, хорошо слышным и Алдонину, и Фоме голосом возвестила, что на свет божий явилась еще одна душа мужского пола…
– Двойня, – растерялся Фома. – Скажу я тебе, Кешка, силен же ты, сукин сын… молодец! Я сам, скажу я тебе, был ого-го-го, но тут… природа!
– Вот тебе, папаша, и Алексей, – не растерялся Алдонин, но голос его прозвучал уже иначе, с некоторой неуверенностью.
– Уважили старших-то родителев, ну, уважили! – заволновался Фома, не чувствуя сырого земляного пола в сенях босыми ногами; он лишь только перебирал ими, словно приплясывал. – Ай да молодцы! Ну, природа! – Он было опять полез к зятю обниматься, но так и застыл в недоумении с полуоткрытым ртом и лишь медленно стал поворачиваться к дверям в избу; оттуда доносилось теперь уже несколько испуганно-изумленных бабьих «ахов», и бабка Илюта все тем же бесстрастным от старости и обыденности любого события в человеческой жизни голосом, все так же с повышенной торжественностью возвестила, что пошел «третенький младенец» и что «бог троицу любит да голубит», и Фома, у которого от нового изумления совершенно остановились и округлились глаза, не мог произнести ни слова, лишь оторопело глядел на зятя, тоже нелепо и растерянно замершего и бессмысленно моргавшего.
– Есть, есть, – радовалась бабка Илюта. – Опять младенчик, опять мужик… Святой крепкий, никак опять к войне? Господи, избави… от…
Алдонин отчаянно рванулся к двери, распахнул ее.
– Туши лампу, старая! Скорей! – гаркнул он перепуганно. – Они на свет лезут!
Его тут же, еще не успевшего толком ничего разобрать, вытолкнули назад, в сени, и Алдонин, тяжело дыша, со страхом прислушиваясь к смутному шуму в избе, несколько помедлил, затем, так и не дождавшись ничего нового, да и не решаясь больше ждать, вышел на улицу; за ним смущенно поспешил Фома. Закурили в молчании, опять-таки непрерывно прислушиваясь к тому, что делалось в избе; Фома, рассуждая сам с собой, сначала неуверенно, но все более воодушевляясь, сказал о том, что это даже хорошо, трое мужиков сразу, никакой тебе более заботы.
– Ты у нас, Кеша, сразу в отцы-героини вышел, – стараясь разговорить по известным причинам ставшего непривычно молчаливым зятя, повысил голос Фома. – За такое геройство мы тебя к ордену всем колхозом приходатайствуем. Пойдем, Кеша-сынок, у меня от бабы есть НЗ, от войны у меня такая хитрость осталась. Пойдем, Кеша, пойдем, тут оно – природа, тут по-другому нельзя, пойдем, – потянул его Фома, и скоро они уже сидели за столом и жарко беседовали, но Алдонин нет-нет да и отодвигал недопитый стакан, задумывался, а когда это случилось в третий или четвертый раз и Фома окончательно пристал к зятю с расспросами, тот поднял голову, долго глядел в потолок, словно окончательно решая что-то, и бухнул:
– Придется козу покупать, папаш, вот оно что.
– Ко-озу? – протянул не сразу сообразивший Фома.
– Козу, – подтвердил Алдонин. – Это животное полезное; жрет мало, а молоко ребятам будет.
– Так-то оно так… У нас в Густищах, сынок Кеша, сроду про козу-то, эту поганую животину, и не слышно было, – осторожно напомнил Фома. – Срам-то у нее весь тебе на улицу… а?
– Эх, папаш, папаш, как погляжу – дикое у вас село! – поднял большой палец Алдонин. – Что такое коза? На ракиту ты ее посади, к примеру, она и там просуществует, корм найдет…
– Ладно, ладно, – остановил его Фома, справедливо полагая, что после такого события, какое только что произошло с его старшей дочерью Танюхой, не каждый может рассуждать в прежнем здравии. – Давай лучше выпьем, сынок Кеша…
Так в Густищах появилось еще сразу трое Алдониных, необычно быстро вставших на ноги, к годовалому возрасту они привыкли почти беспрерывно сновать между своим домом и домом деда, Фомы Куделина, одинаково белоголовые, по крепости похожие на жёлуди с одного ярового дуба.
12
Все проходит, все кончается, прошли и эти два года невиданной засухи; стала понемногу проступать и проясняться другая впечатляющая картина. Те густищинцы, которые были убиты в войну (а их число уже подбиралось к полутора сотням), были убиты, и здесь уж ничего нельзя было переменить. Двадцать восемь человек вернулись назад в Густищи кто без руки, кто без ноги, а кто и без глаз, и к этому постепенно привыкли, тем более что такие одноногие, как тракторист Иван Емельянов, стоили куда больше иного незатронутого (сутками не слезал с трактора, однако бабу его дважды увозили в больницу рожать, и всякий раз, несмотря на послевоенную скудность и тяготы, она возвращалась с горластым синеглазым парнем; Емельянов как-то на полевом стане, где собирались на обед трактористы и прицепщики, под всеобщее одобрение объявил Кешке Алдонину, что в следующий раз он непременно перекроет его рекорд с тройней).
Вы ознакомились с фрагментом книги.

