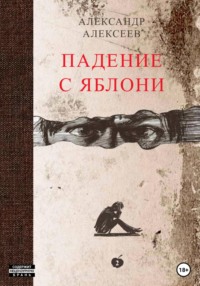
Падение с яблони. Том 2
Потом сходили в автошколу. А оттуда прямиком на 27-й переулок.
Люба сообщила Харьковскому, что Марина уехала домой. Харьковский не огорчился и пошел спать. Я предложил Любе прогуляться. Она потупилась, озадачилась. Тогда я пожелал ей спокойной ночи, и она вмиг согласилась.
Прогулка получилась скучной. Разговор не клеился. Я вдруг обнаружил, что мы с ней совсем чужие. Будто нас только познакомили. К тому же стал пробирать холод.
Очень скоро как-то сами по себе мы очутились у ее дома. Тут я попытался совершить поцелуй. Но это вышло неуклюже, и она отстранилась. Я понял, что сейчас лучший момент, чтобы проститься с ней. Однако баиньки ей явно не хотелось. Она жалась ко мне, как бессловесная овечка.
Я чмокнул ее в губы. И мы разошлись.
* * *Сегодня на первом рейсе прибыл в Дарагановку. Сейчас девять. Через двадцать минут придет автобус, в котором будут Харьковский и англичанка. Я должен сесть в него на своей остановке. Мы вместе катим в Залевскую балку.
* * *Двенадцатый час.
Я вовремя встретил автобус. Но из него вышел один Харьковский.
– В чем дело, где Кошелка?
– Приедет на следующем рейсе.
– А шо ж такое?
– Эта Крысятина – ты представляешь? – пришла не из дому, не переодетая!..
– Как это?
– А вот так! Дома не ночевала! Всю ночь где-то поролась. Пришла на автостанцию в шесть утра и до девяти околачивалась. Я прихожу ж в девять, как договорились, а она уже ждет! Говорит: «Надо ехать домой переодеваться и подмываться». «А шо ж, – говорю, – с шести не было времени?..» Не, ну ты ж ее знаешь! С нее разве шо добьешься! Говорит: «А если я вам не смогу отдаться? Я целую ночь провела с мужчиной…» Я говорю: «Это с тем торчком? Это он мужчина?..» «Во-первых, – говорит, – он не торчок, а во-вторых, я с такими мальчиками не сплю!..» Ну, короче, эта Крысятина шо-то гонит, а шо, и сама не знает. Ее, наверно, целая бригада порола… Я вот думаю, а шо если у нас и в самом деле ничего не выйдет? А?
– Не говори глупостей. Зачем тогда ей сюда переться? В любом случае хуже, чем при своих интересах, мы не останемся. А что может быть лучше своих интересов? А?
– Шо-то она мне сегодня не нравится. На нее как найдет, ты же знаешь.
– Все это чепуха, Славик. Главное, чтобы погода не испортилась.
Небо хмурилось. В общем-то, было довольно тепло и сухо. На лужайках уже зеленела травка, пахло настоящей весной. Но сегодня, как назло, налетели тучи.
Харьковский на этом же автобусе вернулся в город, чтобы там встретить ее. Скоро уже они будут здесь. Он-то уж точно.
Проглянуло солнышко. Теплый ветерок наводит на небе порядок. Кто-то нас благословляет на это грязное дело.
115. Нагие души…
5 марта. Понедельник.
До последней минуты я сомневался, что англичанка приедет. Все еще надеялся, что она просто шутит. Но вот захожу в автобус и вижу их вдвоем.
Ни радости, ни вдохновения сей факт не возбудил. Скорее, наоборот, черная тень легла на мое настроение. Тот свинячий азарт, в котором мы находились последние сутки, вдруг покинул меня. Куда-то исчез. И теперь я был вынужден смотреть на происходящее трезвыми глазами.
Харьковский сидел унылый. Англичанка тоже хмурилась. Выглядела строгой и деловой. Было впечатление, что они не знакомы.
Я поздоровался и сел рядом. Никто не улыбнулся. Говорить было не о чем. И мы молчали.
Наконец доехали до своей остановки. Вышли, не подав англичанке руки. И она разразилась по этому поводу бранью. На брань мы ответили бранью. И, бранясь, направились гуськом прямехонько в балку. Чем вызвали неимоверное любопытство у оставшихся в автобусе пассажиров.
Дорога всем была знакома, мы двигались уверенно. Но ничто не напомнило нам о прошлогодней вылазке. И никто из нас о ней не обмолвился. В этот раз мы свернули налево, чтобы выбрать место поглуше. Ни водоемы, ни пейзажи нас уже не занимали. Забрались в самый конец балки, в посадку, за которой уже начинаются зеленые поля.
Погодка совсем разгулялась. Молодое солнышко резвилось в глубоком небе, деревья стояли еще голые, но трава под ними – как зеленая щетка. Ходить по ней не хотелось, на нее хотелось упасть. Наверное, только поэтому мы не теряли способность шутить. Мы с Харьковским шутили и смеялись. Англичанка о чем-то думала. И нам было неинтересно, о чем она думала.
Харьковский широким жестом скинул с себя куртку, расстелил ее. Мы уселись, как на пикнике. Но скатерти-самобранки не было. Никто не сообразил закуски, никто не преподнес водки.
Мы с Харьковским переглянулись и покосились на англичанкину сумку.
– Лариса Васильевна, – сказал Харьковский, – хто-то обещал водку… Хто-то хвастался, шо получил много денег…
– Какую водку? Ты что, Харьковский, пьяница? Ты пить хочешь?
– Ну, можно, вообще-то, не пить… Если вы шо-то другое предлагаете.
– На что ты намекаешь? Ничего другого для тебя у меня нет. И выкинь эти мысли из головы! Ты опять меня за блядь принимаешь?
Харьковский кисло ухмыльнулся и промолчал. Но я услышал его мысль. Она звучала громко: «Конечно, блядь, кто же еще!»
Однако к веселью это не располагало. Было слишком очевидно, что нас надули.
Я старался не выдавать разочарования. Харьковский принялся пошлить, хамить, ругаться матом и плакаться на голод. Англичанка не обращала на него внимания. И как только он отворачивался, она прилипала ко мне и начинала лить прокисшую медовуху о какой-то любви. Не то чтобы меня это раздражало, просто не испытывал никакого удовольствия. И очень хотелось, чтобы она побыстрей выговорилась и весь этот идиотизм закончился.
Но, к сожалению, он только начинался.
Очень скоро она полезла целоваться. И это было хуже всяких объяснений. Я, насколько мог, прятался от ее губ. Малейшее мое сопротивление вызывало в ней бурю и натиск. Так что я был вынужден чаще обращаться к Харьковскому, чтобы тот хоть немного охлаждал ее матерщиной, которую, надо заметить, Лариса Васильевна не любила.
Она зверела, захватывала мое лицо, слюнявила его, кусала, грызла, потом осматривала слезно. И наконец открыла великий секрет:
– Ты знаешь, Соболевский, что в глаза целуют только любимых?!
И тут же подтвердила это таким засосом, что глаз мой чуть не перекочевал к ней в рот. Я подавил вскипевшее раздражение и попросил ее любить не так сильно.
Вскоре Харьковский взглянул на меня и разразился диким ржанием, будто наконец дождался представления, ради которого сюда ехал.
Я спросил, в чем дело. И он сказал, чтобы я посмотрел на свою рожу в зеркало. Тогда я потребовал у притихшей англичанки зеркало. И она нехотя дала мне свою пудреницу. И при этом пробормотала:
– Ничего страшного… Всего лишь знак любви. На это нельзя обижаться.
Пуще прежнего заржал Харьковский. А я взглянул на себя и увидел свой правый глаз совершенно синим. Это был настоящий фонарь. И я взбесился. Я чуть не ударил ее! Чуть не сделал ей такой же фонарь.
Она принялась усердно извиняться:
– Ну прости меня. Прости, миленький! Я не хотела… Я не ожидала, что у тебя такая чувствительная кожа. Зато это говорит о том, как я тебя люблю!..
И чтобы не слышать больше извинений, я постарался забыть обиду.
Повеселевший Харьковский сделал еще одну попытку забросить сеть на англичанку. И получил тот же отпор.
Она продолжала сходить с ума.
– Я уже хочу тебя, – шептала мне в ухо.
Я отмалчивался, мучительно соображая, как все это перевести в веселое групповое удовольствие. И ничего не мог сообразить.
А она уже поднялась и потащила меня в конец посадки.
Когда Харьковский на своей куртке исчез из виду, она остановилась и спешно принялась раздеваться. Я стоял как пень и смотрел на нее. Она скинула пальто, под которым оказался домашний халат. Сняла этот халат и осталась в черном лифчике, в черных колготках и в черных сапожках… Ничего не скажешь, черное на ней смотрелось обалденно!
Я наблюдал все это без волнения. И даже успел подумать о Любаше. Англичанка перехватила мой взгляд и сказала:
– Не переживай, Соболевский, сейчас оденусь!
И накинула на себя пальто. Я понял, что все это было проделано с целью снять халат и постелить его в качестве постели. Потом она легла, сняла сапожки, колготки и трусы. И поманила к себе.
– Иди ко мне, Соболевский… Видишь, я тебя жду.
Она играла коленями, разводя их и сжимая, так, чтобы я мог видеть черный зев ее промежности.
– Лариса Васильевна, по-моему, вы это обещали Харьковскому, – сказал я.
– Ничего я ему не обещала! Чересчур много он о себе возомнил, твой Харьковский! А ты что, не хочешь? Не хочешь меня?..
Колени ее раздвинулись. Я вздохнул и принялся, что называется, исполнять функцию.
Однако очень скоро остыл. Некоторое время еще пытался возбуждаться фантазиями. Представлял себе Любашу и других девочек, которые мелькали в моей жизни. Но все эти творческие усилия сводились на нет одними ее поцелуями. Избавиться от них было невозможно.
В конце концов мне стало противно то, чем занимался. И я сделал попытку вырваться. Она вцепилась в спину ногтями, застонала.
– Не вставай, не вставай!.. Я кончаю.
Я потерпел еще минуту. Потом резко вскочил и стал застегиваться.
Она лежала, судорожно сжав голые ноги, куталась в пальто и плакала:
– Ты уже не хочешь меня? Не хочешь?.. Да, Соболевский?
И я сказал:
– Не хочу… У меня нет настроения.
– Для чего я сюда ехала? Для чего раздевалась? Для чего все это?!
Тогда выпалил напрямую:
– Вы же нас обоих любите! Насколько я знаю. Сейчас позову Харьковского, он вас всегда хочет. Так что будет полный порядок.
– Нет! Не смей! Я одеваюсь!
Она вскочила и со злостью принялась натягивать трусы, потом колготки. Колготки порвались, и она расплакалась как ребенок.
Сначала это выглядело смешно. Но потом стало жалко ее.
Пока она одевалась, я не проронил ни слова. Смотрел на нее и проклинал все на свете. Было тошно.
Харьковский лежал на своей куртке и с кислой физиономией поджидал нас.
– Шо-то вы быстро, – сказал он. – Как кролики.
– Долго ли умеючи! – пошутил я.
Англичанке шутки эти не нравились. Она молчала, вздыхала и всхлипывала.
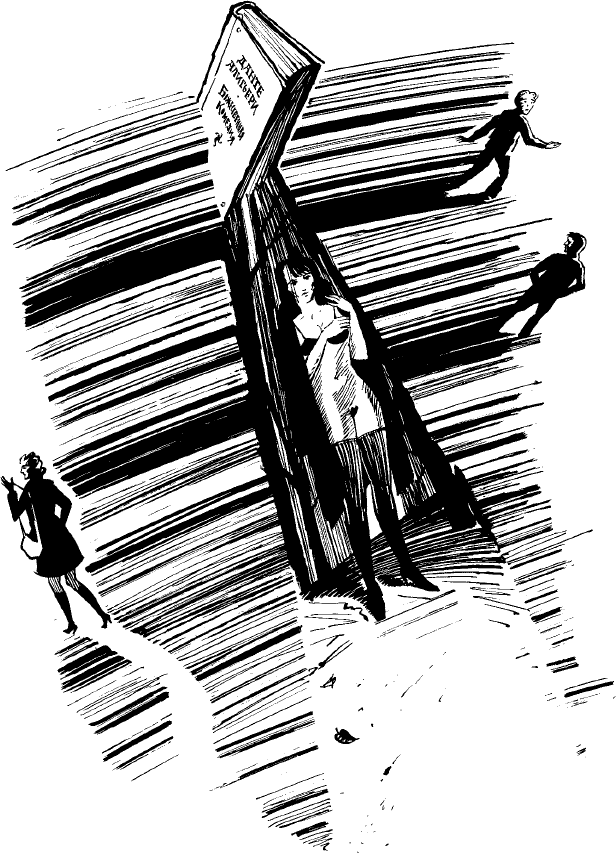
Назад возвращались, как с похорон. Харьковский маячил впереди. Лариса Васильевна плелась рядом, подурневшая от своих дурных мыслей. До половины пути она молчала, потом на меня хлынул поток ее раскаяния.
Ей вдруг показалось, будто мое охлаждение произошло из-за нервного расстройства, вызванного засосом на глазу. А мне было в тягость идти рядом и слушать ее нытье. Становилось невыносимо от мысли, что нам предстоит еще целый час вместе ожидать автобус.
Харьковский облюбовал у тропинки копну старой соломы, прогретую солнышком, и рухнул на нее. И как только я поравнялся с ним, ноги мои тоже подкосились. Просто отказались идти. И я пристроился рядом с другом.
Англичанка, поняв наше намерение, вспылила:
– Где останавливается автобус? Я пойду сама!
Я сказал:
– Лариса Васильевна, вы прекрасно знаете, где останавливается автобус.
Она окинула меня негодующим взглядом и пошла. Харьковский для приличия окликнул ее. Негромко, чтобы вдруг она не остановилась. И она ускорила рассерженный шаг.
Гора свалилась с плеч, дышать стало легче. Мы прошлись по ее косточкам. И настроение чуть приподнялось.
Потом решили пойти ко мне домой. Она стояла на остановке вполоборота к нам. А мы, не глядя на нее, нагло прошагали мимо.
Сегодня после практики мы зашли в бурсу и нарвались на свою Кошелку. Она стояла на лестничной площадке у зеркала и пыталась что-то рассмотреть на своей физиономии. Завидев нас, она рванулась навстречу.
– Скоты! Подонки! Бросили женщину! Соболевский, ты превращаешься в настоящего хама! Ты теряешь себя! Ты становишься ничтожеством прямо на глазах! Остановись, пока не поздно! Благородство никогда не вернешь!..
– Оно, как девственность, теряется только один раз! – добавил я ей в тон.
– Чтобы завтра же принес мне мою книгу! – вскрикнула она. – Я не хочу иметь дело со свиньей! И я не верю, что ты читаешь Данте! Не верю!..
И в ответ из меня совсем непроизвольно вылилось:
– Нагие души, слабы и легки,Вняв приговор, не знающий изъятья,Стуча зубами, бледны от тоски,Выкрикивали господу проклятья,Хулили род людской, и день, и час,И край, и семя своего зачатья…– Подлец, Соболевский!.. Какой ты подлец!!!
– Все мы подлецы, Лариса Васильевна, – тихо закончил я.
– Я тебе отомщу! – процедила она сквозь зубы. – Ты у меня еще поплачешь!
И мы разошлись.
– Это ненадолго, – сказал Харьковский. – Завтра все начнется сначала… Но классно ты ей стихи подкинул! Надо самому шо-нибудь выучить.
116. И я попятился…
6 марта. Вторник.
В начале занятий англичанка грозилась убить меня. В конце – уже улыбалась и извинялась за вчерашние оскорбления.
– Прости меня, Соболевский, прости! Я с ума схожу от любви. Можешь оставить себе Данте на сколько хочешь. Не обижайся на женщину, которая тебя любит…
– Да я и не обижался, Лариса Васильевна. Но Данте я принесу…
– Нет-нет, не надо! Хочешь, я тебе его подарю?.. Хочешь?
– Нет-нет, спасибо. Зачем мне подарки?
– А почему ты не хочешь? Что ты сейчас подумал? Ты подумал, что я потребую что-то взамен? Ты подумал, что я потребую твоей любви? Глупый! Кто же требует любви! Этого нельзя требовать…
– Что-то вы очень противоречивы, Лариса Васильевна.
– Я просто люблю тебя, Соболевский. И все мои глупости – отсюда! Я схожу с ума и страдаю. Ты должен это понять…
И я попятился назад, поскольку она угрожающе надвинулась на меня.
А после обеда Марина Бисюхина отвела меня в сторонку и тихо, доверительно поинтересовалась, где мы собираемся отмечать 8 Марта.
Я сказал, что мы думаем над этим вопросом, но пока ничего не придумывается.
Она предложила завтра встретиться всем вместе и устроить коллективное придумывание.
По поводу моего синяка Харьковский пустил героическую утку. И теперь все, кроме мастачки, посматривают на меня с уважением. Я отказываюсь давать подробности своих деяний.
117. Торчок и выброшенная тряпка
10 марта. Суббота.
После практики мы с Харьковским забрели в бурсу. И в кабинете химии случайно напоролись на англичанку. Кажется, впервые она этому не обрадовалась. Ибо застукали мы ее там в упоительном уединении с молодым возлюбленным.
В общем-то, я такой встречи не исключал, равно как и не ждал ее. Лариса Васильевна покраснела. И молодец ее тоже смутился до крайности, не знал, куда сунуть руки. Мне хотелось уйти и оставить их с богом. Но какой-то бесенок уже шевельнулся в груди и, опираясь на присутствие Харьковского, потянул меня за язык.
– Добрый день, Лариса Васильевна!.. С праздничком вас прошедшим!
Она приложила усилие, чтобы остаться строгим преподавателем.
– Спасибо, Соболевский.
И отвела взгляд, чем дала знать, что я могу быть свободным. Но Харьковский уже ввалился в аудиторию, прошелся, как матрос по палубе, остановился возле торчка и стал смотреть на него. А я вместо того, чтобы с достоинством покинуть помещение, обратился к тому же торчку, растерянно прячущему свои глаза от Харьковского:
– Как дела, дружище?
Он наивно ответил:
– Нормально.
– Рад за тебя, – сказал я так, будто пошлепал его по щеке.
Собственно, этого мне и хотелось, не больше. Однако он неожиданно выпалил:
– Радоваться за меня не надо!
Харьковский громко и неприятно захохотал. А я, естественно, возмутился:
– Ах ты паршивец!.. Это тебя преподаватель английского учит так разговаривать со старшими?! – И подошел к нему вплотную.
У него дрогнули ресницы, и руки с живота переместились на грудь.
– Ну хватит, Соболевский! – вскрикнула англичанка.
И тут же с обволакивающей нежностью обратилась к своему чичисбею:
– Не расстраивайся… Не обращай на него внимания. Это Соболевский. Он шутит. У него шутки такие. Ну ступай, мы еще с тобой поговорим…
И паренек быстро и очень кстати свалил. Я, в общем-то, не собирался его трогать. Просто хотел взять за локоть, довести до двери, услужливо открыть ее и дать молодцу коленом под зад.
Как только он ушел, англичанка изменилась в лице.
– Не знала я, Соболевский, что ты такой! Ты что, из-за меня хотел побить мальчика? Ты меня ревнуешь?
Тут Харьковский совсем неприлично заржал и вдруг ни с того ни с сего ляпнул:
– Так, хорош болтать! А то нас в машине люди ждут. Пошли, Леха!
Англичанка преобразилась.
– Так ты, Соболевский, на своих «Жигулях» приехал?
– Да, – ответил я сухо. – Но не приехал, а проехал. До свидания.
– Ой, Соболевский, мне как раз надо перевезти магнитофон! Как кстати, что ты на машине…
– Никаких гамнитофонов! – отрубил Харьковский и потащил меня за собой.
– Подождите! – кричала вслед Кошелка. – Мне надо с вами поговорить!.. Соболевский! Харьковский!
Она была похожа на старую выброшенную тряпку.
118. Последнее письмо
11 марта. Воскресенье.
Получил письмо из Мирного. Наверное, оно будет последним. Вообще-то, я всегда пишу с большой неохотой. Особенно если не вижу в этом смысла.
Здравствуй, Алексей!Никак не могу понять: то ты просто развлекаешься, то очень ждешь от меня письма, а сам пишешь меньше и меньше. Ничем больше не интересуешься и в то же время восхищаешься моей фотографией.
Понимаешь, Алексей, я не могу тебе верить. Однажды я поверила, но это оказалось простым развлечением. Когда я пишу тебе, я не жду ответа, потому что не знаю, напишешь ты или нет. Мне кажется, ты пишешь только ради своего удовольствия, и когда-нибудь тебе это надоест, и ты перестанешь писать.
Меня еще никто не обманывал, и я всем верила. А вот сейчас получаю письма от своих друзей, с которыми училась десять лет, и сомневаюсь: может, они тоже пишут, потому что им скучно? Мне кажется, ты никогда не думал о будущем. А мы могли бы и встретиться…
Видела Настю Дранченко. Она рассказала о тебе. Ты, оказывается, на редкость умный человек и не имеешь никаких недостатков. Ну а что касается меня, то я состою из одних недостатков.
Видишь, какие мы разные…
Вот и все. До свидания, Надежда.«Прощай, родная!» – сказал я себе.
119. Харьковский никогда не врет
11 апреля. Среда.
Мы погружены в академические заботы. Экзамены. Еще шесть дней!
А весна в этом году ранняя, буйная. И ей, молодушке, плевать на все учебные проблемы. «Давайте, ребятки, – шепчет она игриво, – чешите свои затылки, насиживайте задницы, а жизнь проплывает у вас за бортом!» Кричит она за окном и смеется. А ты сидишь, смотришь в книгу с какими-то формулами и постепенно, как сохнущее растение, начинаешь деревенеть. Потом – сатанеть.
И вот погожим днем после двухдневной отлучки приезжает ко мне запыхавшийся Харьковский на своем грязном лисапеде.
– Леха! – кричит прямо с порога. – Надо шо-то думать!..
– А шо думать? – отвечаю ему нервно. – Шо думать! Вон, книгу в зубы – и думай!
– Баран! Леха, если б ты знал, какой ты баран!
– Знаю. Примерно такой же, как и ты.
– Не, ты хуже, ты баранистее. Сидишь в этой вонючей комнате и не видишь, шо творится на улице! Шо там творится!!!
– А шо там творится?
– Не-е… Ты даже не баран! Бараны и те как-то чухаются. А ты же – дубина стоеросовая! Чурбан какой-то! Пенек с ушами! Ты посмотри в окно!
Я выглянул в окно.
– Ну и что? Куча мусора. И огород копать надо. Вот ты очень кстати приехал…
– Идиот! – взревел Харьковский. – Я же говорил, шо доведут тебя эти книжки! Там весна! Понимаешь, осел, вес-на! А мы с тобой здесь, в хате, гнием! Ф-фу!.. А ну пошли на улицу! Не могу здесь. Эта обстановка меня душит.
Мы вышли и сели на лавочку. Было действительно хорошо.
– Короче, – сказал я, – что там у тебя?
– Короче, еду прошлый раз от тебя на лисапеде. Останавливаюсь в посадке… Просто захотелось передохнуть, на травке посидеть. И шо ты думаешь?
– Шо?
– Подымаю голову… А метрах в десяти… Не, метрах в пяти от меня…
– Да ты шо, не может быть!
– Слушай сюда, баран! Совсем рядом – вот как до дороги! – баба!..
– Голая?!
– Да ты слушай, дурак!.. Я ж могу обидеться и не рассказать, шо было дальше. И ты потеряешь полжизни!
– Нет-нет, Славик, не обижайся, не обижайся!
– Короче, баба лежит, ко мне задом… А над ней сидит чувак…
– Тю, неинтересно.
– Слушай дальше!.. Сидит и целует ее. Так нежненько целует…
– Ну?
– А она ж до меня задом повернута… Прикидываешь?
– Прикидываю. Потом она поворачивается, и ты узнаешь… Кого? Кошелку? Марину? Лену? Или мастачку?!
– Так, хорош перебивать! А то перестану рассказывать!..
– Все, все, молчу.
– А до пояса она раздета. Снизу раздета! Видно, тока шо попоролись и балдеют. А у нее такие ножки!.. Такая попка!.. Прикидываешь? Такой денек, такая травка! И она! У-ух!..
– Ну и шо дальше?
– А шо тебе надо?
– Вот это и все?
– А шо, мало?
– Конечно, мало! Я сижу, уши развесил…
– Дурак! Ты ж ничего не понимаешь! Люди уже выползают на природу! Вперед нас! А мы тут сидим… Как скопцы! Как мудаки! Короче, посмотрел я на них и мне тоже захотелось. Все! Я сказал себе: все, хватит! Надо шо-то думать!
Я представил, как Харьковский ехал, давил на педали и старательно рисовал все это в своем воображении. Но с моей стороны было бы глупо уличать его в брехливости. Дело не в этом. Если Харьковскому запретить врать, то в день он будет произносить не более пяти слов и он уже не будет Харьковским, моим другом, не будет Потрошком. Так что дело не в этом. А дело в том, что этот подлец попал в точку!
– И шо ты предлагаешь? – спросил я.
– Надо кому-то вдуть! – ответил он откровенно и исчерпывающе.
– И кому же?
– Короче, я вот сегодня подумал про Галю Петухову.
С Галей он порвал где-то месяц назад. Как он тогда выразился, она надоела ему хуже перцу. Но, видимо, время и весна как-то особенно действуют на человеческие чувства.
– Ты знаешь, Леха, она мне совсем уже не противна. Недавно встретил ее. Такая телка!.. Короче, я уверен, шо она и на двоих расколется. Отвезем куда-нибудь в посадку. И где она денется! Это ж не то, шо твоя англичанка. Ну как тебе идея?
– Нормально. Согласен.
– И я ж говорю!.. Надо пользоваться старыми связями. И время терять не будем на каких-то новых кошелок, с которыми еще неизвестно, шо будет. И с целками не возиться, как с Мариной или с Любашей. И разрядка хорошая перед экзаменом!
* * *На следующий день мы повезли Галю в ближайшую посадку. И все произошло так, как тому и полагалось быть. На двоих пожарить петушатину не пришлось. Мне достаточно было увидеть ее лицо, ее взгляд, который неотрывно покоился на Харьковском, чтобы прочувствовать все свинство наших замыслов.
Просто посидели, распили бутылочку, приятно пообщались.
Вообще-то, не совсем просто. Харьковский удалился с ней на полчасика. Потом они вернулись, и он стал подмигивать мне и указывать на то же направление. Галя, видимо, уже получившая нужный инструктаж, безропотно опустила глаза и глубоко вздохнула.
Я досасывал последние капли и не проявлял никакой активности. Харьковский не унимался.
– Так, короче, мне надо на двадцать минут свалить. А вы шо хотите, то и делайте. Я вам все разрешаю!
И он действительно свалил.
Галя присела рядом со мной и, не показывая глаз, принялась с усердием мять свои пальцы. Я молчал и ждал, пока она выплеснет свою тяжесть.
Через пару минут она проговорила:
– А это правда, что у тебя нет девушки?
– Чистая правда. А что?
– Ну-у… В общем, мне Славик сказал, что тебе очень плохо…
– Да? Подлец!
– Нет, ну, вообще-то, это по-дружески… Он прав. Он сказал, что ты ночью не спишь. И у тебя даже кровь идет из носу. От того, что нет девушки. Это правда?
– Да, к сожалению. Что ж поделаешь! Судьба такая. Кого-то девушки любят, а кого-то нет!
– Не может быть, чтобы тебя девушки не любили.
– Увы, Харьковский никогда не врет.
Галя умолкла от внутреннего напряжения. Я помог ей:
– Ну и что он тебе еще сказал?
– Ну-у… В общем, он попросил меня, чтобы я тебе помогла…
– Найти девушку, что ли?
– Нет… Чтобы я сама… В общем, если хочешь, то давай… Я согласна.
– А как это? Я себе не представляю.
– Ну-у… Ты можешь меня поиметь… Как свою девушку… Я все знаю, Лешенька… Мне Славик говорил…