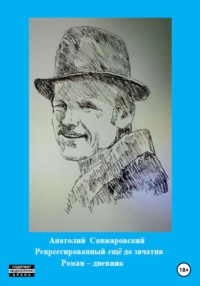
Репрессированный ещё до зачатия
Прокурор Кочко чего-то липнет:
– Колючкин, где ваша прищепка?
– А я почёмушки знаю.
– Она расписана с вами. Что случится – вам отвечать. Не ребёнок. Включайте голову. Думайте!
Николай скребёт затылок.
Ребята в курилке подыгрывают:
– Многоборку твою аннексировал клизмоид напрокатки, а срока так и не указал. Уже три месяца… Ебилей!
– Пора б и честь знать… Да… «Что у женщины на уме – мужчине не по зубам»!
– Но ты особо не унывай. Семеро мужиков из десяти несчастливы в браке. А остальные трое – холостяки.
– Только это и бодрит меня…
У Николая последняя услада – Серёжка трёхлетний.
Пока Ольга на работе, Николай тайком прибегал к нему в сад с конфетами, играл, гулял, и оба со слезами расходились.
Ольга выкинула последнее коленце.
В «книге движения детей по детскому саду № 1» появилось её заявление:
«Прошу не отдавать моего ребёнка Колючкину Н. П., т. к. мы с ним не живём. Прошу не отказать мою просьбу».
Всё это во имя прораба!
Не слишком ли много приношений одному чубрику? Кто он?
Клещ в последнем приступе молодости.
О перипетиях судьбы судит, как о гвоздях:
– Все мы искатели. Ищем Счастье. Ищем повсюду. Дома. На работе. На улице. Я нашёл на работе. Я устроил свою жизнь.
Он оставил жену, с которой разделил десять лет и этаким фертом ринулся на сближение с Ольгой.
В нём Ольга ценит две давно лелеянные штучки: должность и оклад.
Чем-то эти артисты напоминают тоскливый треугольник. Колючкин мучается чёрной изменой жены, готов в любую минуту заманить в родные пенаты и бойко разлучить с вероломным любовником. Но у Ольги, «старой волчицы» с ведьминым весом (меньше сорока килограммов), губа не дурка. Она знает цену обоих воздыхателей. А потому без колебаний тяготеет к Горлашкину.
Как всё это старо.
Эстафету неверных жён Ольга зло и величаво понесла дальше. И просто уходить со сцены она не желает.
– Да я затюкаю его на судах! На каком-нибудь десятом или двадцатом судебном процессе этот сундук с клопами[56] откинет кривые сандалики! А сколько я попорчу ему кровушки по прочим каналам и канальчикам! – с маниакальной жестокостью рисовала она далеко не прекрасное будущее своего бывшего милого.
От такой перспективы стало жутко, и я замолвил словечко за Николая:
– Опыта не занимать… По глазам видно.
Каким благородным гневом вспыхнул Горлашкин:
– Да честнее Ольги нет женщины на свете! В её глазах ты ничего дурного не можешь увидеть. В них только нежность и верность.
Я оставил за собой право возразить. Со стороны виднее.
И многое.
Пусть не разбазаривает восторги Горлашкин.
У Ольги он не первый. А третий.
Может, последний?
Судя по её жестокому влечению к «разнообразию мужчин», вопрос широко открыт.
С последним звонком удалось раскусить Николая.
Рыльце и у него в пушку.
Редакцию он пронял трактатом о небесной любви к Серёжке. Как щедро природа наградила его любовью к собственным отпрыскам!
Эффект был бы солиднее, не оставь Николай в тени Мишку.
Он плюшевый? С ним Серёжка отводит душу?
Увы!
Это не игрушечный медвежонок, а маленький гражданин, первенец Колючкина. И живёт он далеко за Уральским Камнем. С «мамой Тамарой».
Вспомнил, Николушка, первую жёнушку?
Вот и слава Богу!
Слава-то Богу. А я рисуй ответ.
«Нравственный, вразумительный, правдивый».
Подарить с автографом солидный трактат об ответственности молодых за благополучие семьи? Поплакаться, как трудно быть супругом? Заострить внимание юной общественности на знании основ любви и призвать молодят не хватать счастье на лету? Тем более, когда ты в двухнедельном отпуске, в трёхдневной командировке или в краткосрочных бегах от супруги.
Всё это пустяки?
Но они имеют прямое касательство к тому, что в Дрёмове каждый десятый пеструнец входит в мир без отца.
Грустные плоды счастья напрокат…
17 октября 1965
24 декабря. Эхо «Жены напрокат»
Гулюшка жена, уже единожды мамка, по-чёрному разгулялась.
Я и накрути про неё этот фельетон «Жена напрокат».
Ан сама «Правда» против.
Слишком дерзко подана деликатная тема!
Критика в «Правде» – дело святое, божеское. Раз погрозила кому сама «Правдесса» – критикесса трупным пальчиком – берегись! Как уж заведено, лучше сразу бери под козырёк. Кайся. На ходу перевоспитывайся.
И тут же сигнализируй наверх о своих новых соцобязательствах в свете окрика «Правды».
«Молодой коммунар» так и сделал.
Взял. Покаялся. Признал. Просигнализировал.
То есть.
1. Перепечатал из цэковки критику.
2. Признал критику полностью и безразговорочно.
3. Всенародно просигнализировал, что подобного себе больше не позволит. Ни-ни!
А не сделай это «Молодой…», наш редактор Волков мог бы и не усидеть в своём креслице.
Формально всё скроено тип-топ. Не подкопаешься.
Это по форме. Для верхов.
А на самом деле?
Евгений Волков был большой умница.
Всегда чутко прислушивался к дорогим советам «Правды».
Только поступал наоборот.
На летучке он сказал:
– Битьё в «Правде» – прекрасно! Мечта всякого пишущего! С битья в «Правде» начинается всеобщее признание. Так что, Толя, я поздравляю Вас с успехом! Раз «Правдуня» лягнула – значит, это высшего пилотажа материал! А за это надо хвалить!
Похвалил на редакционной летучке.
Осчастливил премиальной поездкой в Ленинград:
– Напишите приличный материал про Ленина в розлив. Пардон, про Ленина в Разливе. Смотрите. Что интересней получится, то и пишите.
И в начале января, когда день прибыл на куриную ступню, я с группой тульских туристов поехал на автобусе в северную столицу на шесть дней. Отчитался за поездку весёлым репортажем «Шесть дней подряд и все праздники».
1966. Январь.
Перед дипломом
На преддипломный отпуск я приехал к маме в Нижнедевицк.
Я подсел к ней на койке в кухоньке. Мама ещё лежала.
– Ма! У Вас вон на окошке стоит цветок. Как его зовут?
– Кто звёздочкой, а кто дурочкой.
– Почему?
– А цветёт он всё время. Дурочки всегда цветут!
– Ма… Раньше я не замечал, что лежите Вы как-то странновато. Ноги не выше ль головы? Сидя лежите?
– Да почти…
– И чего так?
– Да сетка забастувала подо мной. Обленилась вся… Провисла чуть не до полу.
– Это исправимо.
В сарае я нашёл моток проволоки, схватил койку с боков. Сетка уже не так сильно провисала.
– А лучше и не треба, – сказала мама. – По науке в самый раз.
– Это ещё какая наука?
– У меня заниженное давление. И врачица подсоветовала на ночь шо-нэбудь класть под ноги, шоб они булы каплюшку повыше головы. Сетка раньче меня сообразила, провисла и ничо не трэба кидать под ноги.
– Гм… А Вы помните, как я в первом классе учил Вас грамоте?
– Я щэ трошки поучилась бы…
– Так будем учиться?
– Буду. Читать я хочу… Писать тебе письма сама хочу…
– Ну, – подал я ей газету, – почитайте заголовки покрупней.
Мама засмеялась и в испуге сжалась. Глянула ещё раз на газету, зарделась и отвернулась.
– Ну чего же Вы?
– Буквы я прочитаю… А как сложить их в слово? Не получается…Чудное слово у меня выходить и сказать стыдно. Було б мало буквив, я б сложила… А так… Они у меня не укладываются вместе…
– В одно слово?
– Ну да…
– Уложим! Вот пойду куплю букварь и будем учиться!
Я сбегал вниз, в центр села. В книжный магазин.
Букварей не было.
В грусти возвращаюсь.
И вижу: два чумазика барбарисничают у нас.
В кухоньке на столе наше сало, их четвертинка.
Мама старательно подживляет аликов:
– Йижьте сало! Шо ж вы даже не попробовали?
Питухи оказались вежливыми. Пригласили меня выпить с ними.
– Мне врачи не велят! – холодно буркнул я и прошёл в другую комнатку.
Политруки[57] тут же и убрались.
– Ма! Это что за пиянисты были?
– Та я откуда знаю? Прости люды… Шли мимо, стучат в окно: «Не найдётся ли пустого стаканчика?» Я и кажу: «Та шо ж вы навстоячки да на улице? Заходьте у хату».
– Молодцы!
– Та хай выпьють! Шо мне стола жалко? Сала подала…
– Доброта хороша. Да не к алкашам!.. Ну да ладно. Проехали… Забыли… В книжном нет букварей. Но учиться мы всё равно будем!
– Будэмо, – подтвердила мама. – Читать я люблю. Як две-три буквы – учитаю слово. А як нацеплялась их цила шайка – я сразу и не скажу слово. Если перечитаю по одной буквушке… Цэ довго…
– Словом, надо учиться. Когда начнём?
– Тилько не зараз. Зараз холодно. И я ничо не запомню. Та и зараз некогда. Вот посадим картошку… Будэ тепло… Вот тоди и засядэмо мы с Толенькой за учёбищу… Та я, сынок, и сама занимаюсь. Я тоби зараз покажу, шо я за зиму написала…
Из ящичка в столе она достала измятый листок и подала мне:
– Сама писала. Безо всякой чужой всепомощи. Особо я люблю писать слово часнок…
Чеснок – шесть ног…
25 марта 1966.
Поход в гусёвку
В шесть утра пошли мы с мамой за картошкой в Гусёвку к одной тётушке.
У её погреба валялась ржавая, с дырками, немецкая каска.
– А из другой, нехудой, я кур пою, – сказала тётушка. – Врыла в землю, налью воды, и курочки попивают, важно задирая клювы. У-у, эти гады фашистские густо разбрасывались своими головами, – глухо проговорила тётушка, глядя на прогнившую каску.
Тётушка одна за три дня убрала двести пудов картошки. Заболела. Операция. Не может теперь поднять пустого ведра.
Себе в мешок мама всыпала два ведра картошки.
Я хотел нести три ведра.
– Мужику надо вдвое больше таскать, – сказала тётушка. – Он свой вес унесёт.
Я взял четыре ведра. И легко нёс. Уверил себя, что хватит сил.
Наша сила зависит не от наших мускул, а от веры в свою силу. Чем больше веры, тем больше силы.
30 апреля. Гуляки
Митя получил сто рублей премии и бежит с нею домой. Навстречу мама.
Митя рванул в кусты. Испугался, что премию отнимут?
Но уже через час, обнявшись со Степаном, гудели дуэтом у винного магазина:
Зять на тёще капусту возил,Молодую жену в пристяжке водил…Бросили это, затянули другое:
– Не топись, не топись в огороде баня!Не женись, не женись дурачок Ваня!..– Сундук слева, сундук справа –Вот и вся моя держава! Сундуки! Сундуки!– Калинка, малинка моя,Где лежу, там и жинка моя…Митя бросил петь и вздохнул:
– Что деется! Весна! Копать огороды! Сажать! За этой работой и голливуд[58] запустишь! Эха-а горе-е…
18 мая
Вернулся из Ростова. Защитил дипломную на четыре.
Защиту я запомню. Написал о ней целый фельетон.
«Мой фельетон»
Ну что может сказать в своё оправдание тот, кто не виноват?
М. ГенинЗавтра – защита!
В панике я прочёсывал последние кварталы города, но рецензента, хотя бы завалящего, ни кафедра, ни Бог не посылали. Как сговорились. Ну куда ещё бежать листовки клеить?[59]
У-у, как я был зол!
Я был на грани съезда крыши.
Преподаватели почтительно встречали меня на пороге и, узнав цель моего визита, на глазах мрачнели.
Уныло слушали мой лепет утопленника, вздыхали и, глядя мимо меня на голубое майское небо, твердили одно и то же (порознь, конечно):
– Не знаю, чем вам помочь. Вот он свободен! Идите к…
– Я от него…
– Вот вам пятый адрес. Божко выручит. Придите, покажите, – лаборантка провела ребром ладони под подбородком, – и он, слово чести, вас поймёт!
Я обрадовался, как гончая, которая напала на верный след. Меня встретил красавец, похожий на Эйсебио.[60]
Я провёл рукой, как велели и где велели. Молча отдал работу и сел на ступеньки.
Он расстроился:
– Ничего. Всё обойдётся. Сходите в кино. А завтра – защищаться.
Я выполнил наказ молодого кандидата наук.
Наутро он крепко тряс мою руку, будто собирался выжать из неё что-нибудь путное.
– Молодца! Я вам отлично поставил!
– Ты сегодня? – ударил меня по плечу в знак приветствия староста Распутько.
– Сегодня.
– Кидай на бочку двадцать коп за цветы! Во-он у комиссии на столе они.
Я расчехлился на двадцать копеек и гордо сел в первом ряду.
Звонок.
Гора дипломных на красном столе.
Голос из-за спины:
– Начните с меня. Я тороплюсь.
Подбежала моя очередь.
Председатель комиссии Безбабнов безо всякого почтения взял моё сокровище. Брезгливо пролистнул и принципиально вздохнул.
Пошла, сермяжная, по рукам.
– Мы не можем допустить вас к защите. Ваша работа оформлена небрежно.
Я гну непонятки. Делаю большие глаза:
– Не может быть. Я сам её печатал.
– Посмотрите… Дипломные ваших товарищей в каких красивых папках! Берёшь и брать хочется. Ваша же папка никуда не годится. Вся потёрлась!
– Потёрлась, пока бегал искал рецензента.
– А ведь работу вашу будут хранить в библиотеке. Её будут читать! – торжественно пнул он указательным пальцем воздух над головой.
– Не будут, – уверенно комментирую я. – Кроме рецензента в неё никто никогда не заглянет. А рецензент уже прочёл.
– Надо быть скромней, молодой человек. Вы назвали свою работу «Мой фельетон». Самокриклама! Ни Кольцов, ни Заславский себе такого не позволили б!
– Моя дипломная – творческая. Я говорю о своих фельетонах. Почему из скромности я должен не называть вещи своими именами? Хоть я и не Петров, но, судя по-вашему, я обязан представляться Петровым! Тут рекламой и не пахнет, – независимо подвёл я итог.
Конечно, рекламой не пахло. Зато запахло порохом.
– И вообще ваша работа нуждается в коренной переделке! – взвизгнул председатель. – О-очень плохая!
– Не думаю, – категорически заверил я. – О содержании вы не можете судить. Не читали. А вот рецензент читал и оценил на отлично. Я не собираюсь извлекать формулу мирового господства из кубического корня, но ему видней.
Председатель не в силах дебатировать один на один со мной. А потому кликнул на помощь всю комиссию.
– Товарищи! – обратился он к комиссии.
Я оказался совсем один на льдине!
Пора без митинга откланиваться.
Перебив председателя, спешу аврально покаяться на прощание:
– Извините… Что поделаешь… «У каждого лилипута есть свои маленькие слабости». Я искренне признателен за все ваши замечания. Я их обязательно учту при радикальной переработке дипломной! – и быстренько закрываю дверь с той стороны.
Вылетел рецензент.
На нём был новенький костюм. Но не было лица.
– Что вы натворили! Теперь только через год вам разрешат защищаться… Не раньше… Даже под свечками![61] Ну… Через два месяца. Вас запомнили!
– Океюшки! Всё суперфосфат! Приду через два дня.
В «Канцтоварах» я купил стандартную папку.
Какая изумительная обложка!
Главное сделано.
На всех парах лечу в бюро добрых услуг.
– Мне только перепечатать! – с бегу жужжу машинистке. – Название ещё изменить. «Мой фельетон» на «Наш фельетон». И всё. Такой вот тет-де-пон.[62] Спасите заочника журналиста!
Машинистка с соболезнованием выслушала исповедь о крушении моей судьбы:
– Рада пустить в рай, да ключи не у меня. Сейчас стучу неотложку. Только через месяц!
С видом человека, поймавшего львёнка,[63] я молча положил на стол новенькую-преновенькую хрусткую десятку.
– Придите через три дня.
Положил вторую десятку.
– А! Завтра!
Достал последнюю пятёрку.
– Диктуйте.
На этом потух джентльменский диалог.
Через два дня вломился я на защиту.
Однокашники хотели казаться умными, а потому, дорвавшись до кафедры, начинали свистеть, как Троцкий.[64]
Я пошептал Каменскому:
– Следи по часам. Чтобы разводил я алалы не более десяти минут. Как выйдет время, стучи себя по лбу, и я оборву свою заунывную песнь акына.
На кафедре чувствуешь себя не ниже Цицерона.
Все молчат, а ты говоришь!
Нет ничего блаженнее, когда смотришь на всех сверху вниз, а из них никто не может посмотреть на тебя так же. И если кто-то начал жутко зевать, так это, тюха-птюха плюс матюха, из чёрной зависти.
Что это фиганутый Каменский корчит рожу и из последних сил еле-еле водит пальцем у виска, щелкает?
Догадался, иду на посадку:
– Мне стучат. У меня всё.
Председатель улыбнулся.
Я не жадный.
Я тоже ему персонально улыбнулся по полной схеме. Для хорошего человека ничего не жалко.
– Вы мне нравитесь! – пожимает он мне руку.
Как же иначе?
Крутилка
В «Молодом коммунаре» я гегемонил отделом сельской молодёжи «Колос».
Под моей рукой был лишь один литраб.
Да и тот Николай Крутилин. Гонористый, занозистый.
Редактор Евгений Волков частенько мне выпевал:
– Толя! Гоните из отдела этого Крутилку. Ручку ж человек в руках держать не может! Зачем он нам? Накрутит статью – вешайся с тоски!.. Гоните!
– Жалко… Бывший детдомовец… Двое детей… Кормить хоть через раз надо…
– А у нас что? Собес или редакция? У человека семь классов… Не понимаю, зачем вы переписываете его классику? Почему вы на него пашете, как папка Карло? Возьмите к себе Женю Воскресенского. Или Лёню Балюбаша. Асы! А Крутишку не всякая и районка подберёт. Гоните! За вашу доброту он вам подвалит окаянную подляночку. Вспомните ещё меня!
Я пожимал плечами и молча уходил.
И вот я уехал в Ростов, в университет, где заочно учился на факультете журналистики.
Уехал защищать диплом.
Приезжаю и сразу с вокзала в редакцию.
Час ранний.
Можно было отвезти вещи домой.
Но ехать мимо редакции и не зайти?
Во всей редакции хлопочут лишь уборщица бабушка Нина, да настукивает в машбюро старая девулька Аля. Дома холодные стены кусаются, бежит в редакцию чуть свет.
– А у нас новостей полный мешок! – торопливо докладывает Аля, едва увидев меня на пороге. – Зося-то наша!.. Задурила Зосенька с Шингарёвым! Несчастная! Как она с ним спит!?
– Наверно, закрыв глазки.
– Ага! У этого усатого бугая поспишь! Он же старый как чёрт! Толстый! Седой! Громадный, как шкаф! Ему все пятьдесят два! А ей двадцать! Ровесница его сына! Ну Зося! Ни стыда ни совести. Ничего не боится. Какая смелая!
– Что вы так убиваетесь? Будто вам предстоит оказаться на месте этой сладкой пышечки Зоси. Ночью в кровати все молодые и красивые!
– Я бы, тютька, всё равно не смогла б.
– Потому-то вы и сидите за машинкой тут почти безвылазно. А Зося молодец. Не промахнулась. Сергей Исидорович – серьёзный гражданин. Солидный, внушительный. С уважением относился ко всем в редакции. Большой военный чин. Полковник. Вышел в отставку. Самого Гагарина учил летать! Такие на глупости не распшикиваются. У нас был комиссаром отряда «Искатель».
– Так вот дал Шингарь тягу. Позавчера приходил, забрал трудовую. Потом говорит: «Дайте и книжку Аиста». Это он так Зосю величает. Зося раньше прислала заявление по почте. Стыдно глазки показать. Ну надо! Прихватизировала слона! Отбыла скандальная парочка на житие в столицу. С квартирой Шингарю помог сам Гагарин.
– Подумать… Самого Гагарина учил летать! Какие птицы залетают к нам в «Молодой». Я думаю, у Зоси с Сидорычем всё вырулится на добрый лад… Хватит о них. Как тут все наши? Неугомонный герр Палкинд всё бесшабашно штурмует редакцию вагонами своей пустозвонной, кошматерной стихомути?.. Что наш красавей Вова Кузнецов напечатал в моё отсутствие? Золотое перо! А разменивается на газетную ламбаду. Как жалко… За серьёзную прозу надо садиться парню!..
Тут, горбясь, глаза в пол, прошила к себе в дальний угловой кабинет Северухина. Я к ней.
– Ну, как вам жилось месяц без меня, товарисч заместитель редактора? – спрашиваю.
– По-всякому, Толя… Наверно, скоро меня здесь не будет…
– А с чего такой пирожок?
– Тут надо мной такое… Тульские умельцы… Третьего дня прибегаю утром и с ходу падаю в кресло читать ботву[65] в номер. По старой привычке, не отрываясь от рукописи, наливаю из графина попить, подношу стакан ко рту и тут мне шибанул в нос специфический запах… Оха, тульские умеляки… И блоху подкуют, и цыганский долг мне в графин отдадут… Как чисто эти тульские умельцы всё сляпали… Горлышко у графина такое узкое… Как смогли?.. Нипочём не пойму… Даже сразу и не заметишь…
– Да что ж таковецкое свертелось?
– Мне, Толя, говоря открытым текстом, в графин, пардон, написали и накакали тульские мастеровиты. Только и всего. И под графин подпихнули красочную открытку с застольным весёлым призывом: «Пей до дна! Вся годна!..
Пей до дна! Вся годна!.. Пей до дна! Вся годна!..».
– Мда-с… Кому-то вы сильно пересолили. Кого подозреваете?
– Только не тебя. – Она тоскливо усмехнулась. – У тебя алиби. Будь спокоен. Ты не мог из Ростова приехать на такое громкое мероприятие. Да что выяснять… Уеду я к себе в Нижний… Хватит обо мне. Давай о деле. Защитился?
– На отлично.
– Хвались!
Я подал ей развёрнутый диплом.
Она рассматривает его, восхищённо цокает языком:
– Я, дурка подкидная, мечтала о журфаке, да сдуло в педик, в этот чумной, – она кисло поморщилась, – анстятут благородных неваляшек… А ты, ей-богу, молодчук! Журналиссимус! Другого не могло и быть. При твоих способностях да теперь и при дипломе журналиста ты можешь быть востребован в высших кругах области. Мы это будто предчувствовали и подготовили тебе достойную смену. Беда нас врасплох не накроет. У нас уже готов завотделом сельской молодёжи.
– Послушайте! Я что-то не пойму. Вы тут меня без меня женили? Куда вы меня сватаете? Про какую смену ваша высокая песнь песней?
– Про Колю Крутилкина. Пока ты месяц блистал отсутствием, Николенька вырос на пять голов! И тут у нас сложилось такое мнение, что ты его, извини, затирал. Не давал ходу…
– Да, да! Именно я затирал, именно я не давал ходу его бодягам, доводил до газетных кондиций его галимэ.[66] Рубите прямо!
За этот месяц Крутилкин по строчкам выкрутился в асы! А при тебе он постоянно пас зады, плёлся в отстающих. Часто за месяц не набирал шестисот строк и платил пятирублёвые штрафы А тут… За всю свою работу в «Молодом» выбился в геройки! Как тебе это? То всю жизнь стриг концы. А тут – первый! У него открылся великий дар организатора авторских выступлений!
– Так, так! И кто эти авторы? Сиськодёрки,[67] свинарки, механизаторы, пастухи?..
– Конечно, публика не от сохи, – замялась в ухмелке Северухина. – Но всё же…
У неё на краю стола лежала подшивка.
Я пролистнул несколько последних номеров газеты.
– Мне всё ясно. Пока я вам ничего не скажу. Ключик от этого ларчика у меня. Встретимся после обеда. Дядька я добрый. Но если кто наступит мне на хвост – останется без головы!
– Толь! – залисила она. – Ты только не наезжай на него круто. Я как понимаю?.. Зачем шуметь? Надо съезжать с горы тихо. На тормозах…
– А вот это, уважаемая Галина Александровна, дело вкуса. И у каждого свой вкус!
В областной библиотеке я накинулся внимательно просматривать подшивки районок.
И моё предположение подтвердилось.
Местные журналисты, напечатав свои материалы у себя в районной газете, стали по просьбе Крутилкина засылать их к нам в «Молодой». Одну и ту же статью человек прокручивал дважды. Это уже не дело. А главное – каково после районки печатать материал в областной газете?
Удар по престижу нашей газеты наносился невероятный.
Когда про всё это я сказал Волкову, он позеленел:
– Вот вы, Толя, и дождались гостинчика от дорогуши Колянчика! Я предчувствовал… Завтра же – собрание! Чтоб были все! Кину я Крутилке железного пенделя под зад! По статье шугану из редакции!
На собрание Крутилкин не пришёл.
Заявление об уходе передал через Северухину.
А месяца через два не стало у нас и самой Северухиной. Подалась-таки поближе к северу. В Нижний Новгород.
1966
В Ясной поляне
Примерам в жизни нет конца,Когда красивая дурёхасбивает с толку мудрецаи водит за нос, словно лоха.Борис ДунаевНа два дня я взял командировку в Щёкинский район, где находится толстовская усадьба Ясная Поляна. Материал собрал в один день и тут же, со станции «Ясная Поляна»,[68] ахнул в Москву.
Возвращаюсь в Тулу с Аллой Мансуровой. С новым самоваром в ту же Тулу.
С Аллой я познакомился в Главной библиотеке страны напротив Кремля, когда в книгохранилище выписывал из старых журналов фразеологизмы для своего словаря.
Алла обворожительна. Под нейлоновой кофточкой она вся на виду, как под рентгеном. Верно, «одежда может многое сказать о человеке. Особенно прозрачная».