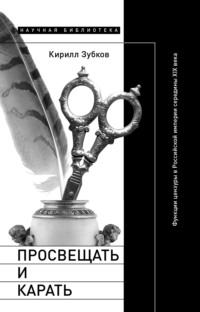
Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века
В то же время Гончаров пытался установить доброжелательные отношения между литераторами и вновь назначенным либеральным председателем цензурного комитета и попечителем Петербургского учебного округа Г. А. Щербатовым. Это видно в письме Краевскому от 18 ноября 1856 года, где цензор не просто передает издателю приглашение на вечер к Щербатову, но и подчеркивает, что тот не приказывает, а лишь просит Краевского пожаловать и что на вечере встретятся представители разных кругов – и литераторы, и профессора, и цензоры:
Князь Щербатов просил меня просить Вас пожаловать к нему в эту пятницу и жаловать в прочие пятницы вечером: он очень желает познакомиться с редакторами и литераторами, чтобы иметь постоянные и прямые личные с ними сношения, между прочим, для объяснений по литературным и журнальным делам. Он просил также извинить его, пожалуйста, что он, заваленный по утрам докладами и просителями, не имеет возможности сделать визитов, а просит обойти эти церемонии. У князя найдете и профессоров, и ценсоров, и Дружинина… etc. (Мазон, с. 35)127
В схожем тоне Гончаров через неделю звал к Щербатову И. И. Панаева:
Князь Щербатов поручил мне просить Вас, любезнейший Иван Иванович, пожаловать к нему в пятницу вечером и жаловать в прочие пятницы. Там, кажется, будут и другие редакторы и литераторы, с которыми со всеми он хочет познакомиться. Только он просит извинить его, что, за множеством дел и просителей, он не может делать визитов. Вечер же самое удобное время, говорит он, даже когда понадобится объясниться по журнальным делам. Он спрашивал меня, кто теперь есть здесь из наших литераторов (разумеется порядочных). Я назвал П. В. Анненкова, Григоровича, Толстого; он усердно приглашает и их128.
Судя по всему, Гончаров считал, что в качестве цензора может едва ли не облагодетельствовать издателя. В письме Краевскому он сообщил о своем назначении цензором «Отечественных записок», подчеркивая, что сам просил Лажечникова уступить ему журнал Краевского (Мазон, с. 35). Впрочем, Дружинину Гончаров писал, что предпочел бы цензуровать «Библиотеку для чтения», которую редактировал его адресат, «но Фрейганг не дал»129.
Если в письмах к литераторам и издателям Гончаров позиционировал себя как выразителя доброй воли либерально настроенного правительства, то в письмах к коллегам-цензорам он представал выразителем мнений литературной общественности. 6 апреля 1857 года он обратился к секретарю цензурного комитета А. К. Ярославцеву едва ли не как медиум, способный донести голос даже Пушкина (а вместе с тем и высокопоставленного начальства):
Прилагаю при этом сочинения Пушкина и мой рапорт, который, в последнее заседание, разрешено мне подать. Сделайте одолжение, почтеннейший Андрей Константинович, прикажите, как только можно будет скорее, заготовить бумагу в Главн<ое> упр<авление> цен<суры>, чтобы оно поспело там к докладу первого заседания после Святой и чтоб на празднике успели его рассмотреть в канцелярии министра. Об этом Вас просит усердно Анненков, я и сам Пушкин. Об этом знают некоторые члены Главн<ого> упр<авления>, между прочим, интересуется и граф Блудов (цит. по Котельников, с. 485).
Другой характерный пример – аргументация Гончарова в пользу переиздания «Записок охотника» Тургенева. В докладе, датированном 20 ноября 1858 года, цензор выступал в качестве не столько чиновника, сколько носителя эстетического вкуса и представителя общественного мнения, на которое он прямо ссылался:
Книга его прочтена всеми и на всех производит благородное, художественное впечатление: поэтому второе издание ее было бы справедливым возвращением ей права вновь появиться в кругу изящной отечественной литературы и стать наряду с лучшими ее произведениями (Гончаров, т. 10, с. 44).
Итак, Гончаров пришел на службу в цензуре, руководствуясь новыми принципами, характерными для группы чиновников-реформаторов, стремившихся преобразовать российское государство. Писатель в целом разделял их представления о необходимости реформ и стремился использовать свой статус одновременно чиновника и писателя, чтобы поучаствовать в преобразовании отношений между правительством и обществом. Однако реальность цензорской службы не соответствовала представлениям Гончарова о своей роли.
2. Чем занимался Гончаров в цензурном комитете? Реформаторские планы и повседневная практика
Сам характер службы в цензурном комитете не давал рядовому цензору наподобие Гончарова возможность проявить свои «литературные» способности: цензурные порядки со времен Николая I фактически не изменились и совершенно не были приспособлены к выполнению цензором посреднической функции. В этом смысле никакая цензурная реформа даже не началась. Рядовой цензор в своих отзывах обязан был руководствоваться исключительно цензурным уставом и многочисленными циркулярами и распоряжениями правительства и министра народного просвещения. Все более или менее сложные случаи он должен был выносить на заседания цензурного комитета, который, в свою очередь, стремился избежать ответственности и предоставлял решение Главному управлению цензуры130.
Как и многие российские бюрократы, цензоры должны были стремиться не к реальным успехам, а к тому, чтобы их достижения хорошо выглядели на бумаге. Все исследователи творчества Гончарова, обращавшиеся к его цензорской деятельности, регулярно ссылаются на приведенные А. Мазоном впечатляющие цифры, почерпнутые из этих ежемесячных отчетов: в 1856 году писатель прочитал 10 453 страницы рукописей и 827,75 печатного листа изданий, доставленных в цензуру в корректурах, в 1857 году – 8584 страницы и 1039 печатных листов, в 1858 году – 19 211 страниц и 1052,75 печатного листа. Если верить этим отчетам, картина вырисовывается поразительная: за все годы службы в цензуре Гончаров просмотрел 49 106 листов рукописей и 4550 авторских листов печатных текстов, причем в это же время был в основном написан «Обломов»131. Гончаров был далеко не самым тяжело трудившимся членом комитета: чаще всего он занимал по количеству просмотренных страниц предпоследнее место, превосходя лишь тех членов комитета, которые собирались вскоре уйти со службы. Так, В. Н. Бекетов за те же годы и месяцы просмотрел 110 112 листов рукописей и 12 692 авторских листа печатных текстов132. Конечно, эти цифры заставляют представлять любого цензора мучеником, погребенным под горой бумаг. Однако далеко не во всем составленные цензорами, в том числе Гончаровым, отчеты заслуживают доверия. Во-первых, не все одобренные рукописи цензоры действительно читали. Например, 3 июня 1857 года Гончаров одобрил 6‐й номер «Отечественных записок», 4 июня – сразу два номера газеты «Золотое руно», 5 июня – 11‐й номер журнала «Мода», 18 июня – 24‐й номер «Газеты лесоводства и охоты»133. Однако 7 июня цензор уже пересек российскую границу, направляясь в Мариенбад134. Значительно более распространен другой метод фабрикации отчетов, сводящийся к неверному сложению объемов рукописей. В мае 1857 года Гончаров, по его собственному отчету, рассмотрел 1816 страниц рукописей, тогда как сложение объемов всех указанных им рукописей дает на 200 страниц меньше, в мае того же года разница составляет 100 страниц, в октябре – 300 страниц, причем разница всегда оказывается в пользу цензора135. Разумеется, речь идет не об обманах самого Гончарова, а о типичной практике ведения дел в цензурных комитетах. Другой пример: прохождение через цензуру книги историка Армении А. М. Худобашева «Обозрение Армении в географическом, статистическом и литературном отношениях» (СПб., 1859). Этот монументальный труд попадал к цензору трижды, а его прохождение заняло около года. В первый раз Гончаров принял решение передать книгу в Духовную цензуру, по возвращении оттуда – решил «препроводить» в Кавказский комитет (Гончаров, т. 10, с. 32–33). Сочинение Худобашева было внесено в цензуру еще раз, почти через год, и только после этого было наконец рассмотрено и разрешено Гончаровым. В результате цензор вписал одну и ту же книгу в ведомость дважды, причем в первый раз произведение Худобашева на 956 страницах составило почти три четверти просмотренного за месяц объема рукописей, а во второй раз – половину136. Впрочем, можно было вписать ее в ведомость и трижды, еще больше завысив количество листов.
При этом в реальной практике цензуры бюрократические ограничения подчас не исключали, а поддерживали идейные ограничения. Как известно, в начале XIX века цензоры и критики, представлявшие привилегированные слои российского общества, в схожем духе оценивали «низовую» литературу; разница состояла в том, что цензоры были склонны ее запрещать, а критики – только осуждать137. Анализ цензорской деятельности Гончарова демонстрирует, что эта практика поддерживалась на уровне повседневных бюрократических практик цензурного аппарата: запретить любительское сочинение было значительно проще, чем произведение профессионального и пользующегося успехом литератора. Когда цензор должен был принять более или менее значимое решение, особенно решение о неодобрении рукописи к печати, он, за редчайшими исключениями, не действовал самостоятельно, а апеллировал к мнению цензурного комитета или даже Главного управления по делам печати. Так, за все годы службы в цензуре Гончаров без обращения к начальству запретил следующие произведения, по преимуществу явно не относящиеся к профессиональной литературе и вряд ли способные привлечь широкое внимание публики (названия приводятся в соответствии с записями в цензорских ведомостях): «Anagramme du nom en Grec de Sa Majesté Alexandre II (от г. Пападопуло-Врето)», «Полное собрание русских песен и романсов, А. Н. (от г-на Носовича)», «В России верблюд о двух горбах (от купца Никифорова)», «Две лирические поэмы на случай священнейшего коронования их императорских величеств (от г. Краснопольского)», «Двенадцать спящих будочников (от Шмитановского)» (позже это произведение было одобрено под названием «Двенадцать спящих сторожей»), «Сборник лучших басен Крылова, Хемницера, Дмитриева и Измайлова», «Стихи на заключение мира в Париже 18/30 марта 1856 года (от г. Депрерадовича)»138. Напротив, в вышестоящие инстанции Гончаров обращался с такими произведениями, как «Полное собрание сочинений» Н. М. Языкова; 7‐й том «Сочинений» А. С. Пушкина, изданных П. В. Анненковым; «Ледяной дом» и «Последний Новик» Лажечникова; пьесы Островского; повести Тургенева и др. – то есть с сочинениями известных и авторитетных писателей. Причина здесь – не личная нерешительность Гончарова, а бюрократическая система, в рамках которой цензор вообще не должен был брать на себя ответственность за какие бы то ни было важные решения.
Что касается профессиональной литературы, то от цензора требовалось не принимать никаких ответственных решений, ни либеральных, ни репрессивных. В 1858 году Гончаров получил выговор за пропуск романа А. Ф. Писемского «Тысяча душ». Через много лет, 21 января 1872 года, Писемский благодарил его за то, что четвертая часть романа вышла в неискаженном виде: «…вы были для меня спаситель и хранитель цензурный: вы пропустили 4‐ю часть „Тысячи душ“ и получили за это выговор» (Писемский, с. 285). Впрочем, осуждение вызывал не только либерализм, но и чрезмерная суровость цензоров, проявляемая в случаях, которые не были предписаны цензурными правилами. Когда один из коллег Гончарова попытался запретить П. В. Анненкову переиздавать некоторые чрезмерно вольные произведения Пушкина, начальство распорядилось, чтобы он «не умничал»139 – и действительно цензор был обязан препроводить это издание на рассмотрение Главного управления цензуры как сочинения известного писателя. На основании всех этих примеров можно сказать: во времена службы Гончарова цензор не должен был нести слишком большую индивидуальную ответственность за разрешение и запрещение известных или оригинальных произведений.
Таким образом, даже очень ограниченные планы либеральных реформаторов, желавших установить контакт хотя бы с просвещенными представителями привилегированных кругов общества, столкнулись с инерцией бюрократической машины, совершенно неспособной эффективно взаимодействовать с представителями публичной сферы. Набранные в цензуру либерально настроенные литераторы типа Гончарова оказались в таком же положении, как служившие до них бюрократы, – единственным отличием оказалась их близость к литературному обществу, благодаря которой они могли пытаться хотя бы поддерживать личные отношения с литераторами.
Впрочем, литературное сообщество, со своей стороны, нечасто было готово вступать в доверительные контакты с цензорами. Особенно это стало заметно в конце 1850‐х годов, когда литераторам стало ясно, что «новые» цензоры на практике не всегда лучше старых. До возникновения Литературного фонда в 1860 году единственными влиятельными группами, определявшими ход литературного процесса «изнутри», оказались редакции журналов. Кроме издателей и редакторов отдельных периодических изданий, Гончарову было не к кому обратиться. Краевский или Дружинин, издававшие толстые журналы, не могли не прислушаться к мнению цензора. Не считая такого – во многом вынужденного – симбиоза, литературная общественность часто не доверяла чиновникам гончаровского типа. Показательны в этом смысле два эпизода с участием Гончарова. 8 декабря 1858 года, обращаясь к П. В. Анненкову, он писал о неприятной истории, в которую попал по милости своего адресата:
Третьего дня, за ужином у Писемского, по совершенном уже окончании спора о Фрейганге, Вы сделали общую характеристику ценсора: «Ценсор – это чиновник, который позволяет себе самоволие, самоуправство и так далее», – словом, не польстили. Все это сказано было желчно, с озлоблением и было замечено всего более, конечно, мною, потом другими, да чуть ли и не самими Вами, как мне казалось, то есть впечатление произвела не столько сама выходка против ценсора, сколько то, что она сделана была в присутствии ценсора. В другой раз, с месяц тому назад, Вы пошутили за обедом у Некрасова уже прямо надо мной, что было тоже замечено другими.
Я не сомневаюсь, любезнейший Павел Васильевич, что в первом случае Вы не хотели сделать мне что-нибудь неприятное и сказанных слов, конечно, ко мне не относили и что во втором случае, у Некрасова, неосторожное слово тоже сказано было в виде приятельской шутки. Но и в тот, и в этот раз, особенно у Писемского, были совершенно посторонние нам обоим люди, которые ни о наших приятельских отношениях, ни о нежелании Вашем сказать мне что-нибудь грубое и резкое не знают и, следовательно, могут принять факт, как они его видели, как он случился, то есть что ругают наповал звание ценсора в присутствии ценсора, а последний молчит, как будто заслуживает того. Если б даже последнее было справедливо, то и в таком случае, я убежден, Вы, не имея лично повода, наконец, из приязни и по многим другим причинам, не взяли бы на себя право доказывать мне это, почти публично, и притом так резко, как не принято говорить в глаза140.
В этом объяснении Гончаров совершенно не упоминает, что дважды случившийся инцидент имел отношение не только к его чиновничьему положению, но и к литературной этике: Анненков в его лице оскорбил не только цензоров, но писателя. Судя по его изложению, на это не обратили внимания и другие участники ужина. По мнению собравшихся литераторов, цензор по определению исключался из их круга, даже если сам был известным автором.
Таким образом, ни цензурное ведомство, ни литературное сообщество не имели выработанных форм коммуникации друг с другом в пределах публичной сферы, а не кулуаров цензурного ведомства, и, за немногими исключениями, не стремились эти формы создавать. Планы «либеральных бюрократов», которые Гончаров был призван выполнить, при всей своей ограниченности не могли быть реализованы. В этих условиях установка Гончарова, согласно которой можно было одновременно продуктивно трудиться и на литературном, и на цензурном поприще, способствуя контактам между этими двумя социальными институтами, оказалась неосуществимой. Судя по его собственным высказываниям, Гончаров все с большим и большим трудом мог соединить две эти ипостаси. Так, в письме от 28 августа (9 сентября) 1859 года, сообщая А. Ф. Писемскому, что шокирующее содержание его пьесы «Горькая судьбина» вызывает у него эстетическое недовольство, Гончаров добавлял:
…это не будет чересчур противно и даже, может быть, примется одобрительно при последнем современном направлении литературы. Я, как старый литератор, может быть, гляжу на это очень робко, но это мое личное мнение, и я за него не стою горой. Однако я боюсь ценсуры – за драму, разве Вы сделаете уступки141.
Гончаров рассуждал так, как будто не имел никакого отношения к возможному разрешению или запрету пьесы. Между тем именно он впоследствии сыграет не последнюю роль в ее допуске к печати (см. Гончаров, т. 10, с. 52, 509–511). Тем не менее, рассуждая «как старый литератор», Гончаров уже не воспринимал себя как цензора. Напротив, ставя себя на место цензора, писатель как бы забывал о своей литературной деятельности. Социальные роли писателя и цензора в его сознании уже жестко противопоставлены. Это положение вещей едва ли устраивало Гончарова, однако, не имея материальной возможности оставить службу, он пытался по возможности способствовать скорейшему преобразованию в работе цензурного ведомства.
Экскурс 1
«…ПРИНЯЛИ СТОРОНУ СИЛЬНОГО…»
ЛИТЕРАТУРНОЕ СООБЩЕСТВО И СТАТУС ЦЕНЗУРЫ В 1856 ГОДУ
Убежденность Гончарова и «либеральных бюрократов» в возможности использовать цензуру как институт коммуникации между государством и литературным сообществом может показаться поразительной слепотой чиновников, не способных понять, как писатели должны относиться к этому ведомству. В действительности, однако, в то время, когда Гончаров принял решение стать цензором, такие взгляды встречались и среди самих писателей. В этот короткий промежуток времени литераторы искренне верили в возможность и продуктивность кооперации с государством и надеялись, что она приведет к реальным переменам к лучшему в политической жизни империи. В 1855–1857 годах многие литераторы воспринимали государство не как оппонента, а как потенциального союзника в общественной жизни. В цензорах (по крайней мере, либеральных) эти литераторы были склонны видеть прежде всего не врагов творческой свободы, которым необходимо по возможности противостоять, а значимых участников общественной жизни, с которыми требуется налаживать продуктивное взаимодействие. Надеждам этим не было суждено сбыться, но лишь очень немногие современники не верили в возможность построить новые отношения с цензорами.
Мы покажем популярность этого убеждения на примере одного эпизода – обсуждения первого издания «Стихотворений» Н. А. Некрасова.
Некрасова, одного из главных радикалов в истории русской поэзии, трудно обвинить в чрезмерной снисходительности к цензорам. В стихотворении «Кому холодно, кому жарко!», вошедшем в цикл «О погоде» (опубл. 1865), он писал:
А театры, балы, маскарады?Впрочем, здесь и конец, господа,Мы бы там побывать с вами рады,Но нас цензор не пустит туда.До того, что творится в природе,Дела нашему цензору нет.«Вы взялися писать о погоде,Воспевайте же данный предмет!»142Образ цензора в этих строках, с одной стороны, соответствует традиционному представлению о не способном понимать поэтических произведений гасителе свободы, а с другой – демонстрирует сложные отношения между литературой и цензурным ведомством. Этот персонаж стихотворения действительно механически ограничивает творческую свободу поэта, вероятно руководствуясь страхом, что в невинное, казалось бы, стихотворение может прокрасться что-то неблагонадежное. Вместе с тем цензор вторгается в обсуждение литературных вопросов: его волнует выдержанность темы и проч. Разговор поэта с цензором неизбежно оказывается беседой не о политике, а о поэзии. Своеобразное место цензора на границе литературного и чиновнического миров у Некрасова очень ясно выражается за счет стилистически абсурдного сочетания «поэтических» и бюрократических слов в его речи («Воспевайте же данный предмет»). Как кажется, эта двойственность – выражение не просто иронии Некрасова, а вполне реального опыта его столкновений с цензурой. Позиция самого Некрасова, впрочем, со временем менялась: поэт далеко не всегда был только непримиримым врагом цензуры.
В 1856 году, следом за выходом первого издания «Стихотворений» поэта, несколько его произведений («Поэт и гражданин», «Забытая деревня» и «Отрывок из путевых записок графа Гаранского») были перепечатаны на страницах «Современника». Это привело к масштабному скандалу, ход которого будет рассмотрен далее. В поле нашего внимания будет не только и не столько цензурное делопроизводство, уже достаточно изученное исследователями, сколько позиции представителей литературного сообщества. На основании работ многочисленных исследователей, обращавшихся к этому эпизоду, складывается вполне определенная картина: в отсутствие опытного журналиста Некрасова, находившегося за границей, его стихотворения перепечатал руководивший журналом Н. Г. Чернышевский. Строго говоря, ничего формально нарушающего цензурный устав в этих стихотворениях не было, однако это не остановило развития событий. По всей видимости, толчком к ним послужили жалобы на Некрасова со стороны каких-то оставшихся неизвестными сановников. Цензура, возглавляемая министром народного просвещения А. С. Норовым и товарищем министра народного просвещения П. А. Вяземским, воспринимала поэзию Некрасова как политически опасную и была возмущена и книгой стихотворений, и – еще более – републикацией их в известном и влиятельном толстом литературном журнале. В результате разбирательства И. И. Панаев, в отсутствие Некрасова формально руководивший «Современником», получил выговор лично от министра, а слывший либералом цензор В. Н. Бекетов, дозволивший печатать и книгу Некрасова, и соответствующий номер, едва не был вынужден уйти в отставку, журнал же был передан более придирчивому И. И. Лажечникову. Таким образом, исследователи создают картину произвола цензуры, жертвами которого становились и журналисты, и поэты, и даже либеральные сотрудники самогó цензурного ведомства143.
Однако в этой картине не находится места мнению самих писателей об этом скандале, которое с трудом вписывается в обрисованную учеными картину. Литературное сообщество, за несколькими значимыми исключениями, резко выступило именно против официальных редакторов «Современника» – Некрасова и Панаева. Более того, даже сам Некрасов, похоже, был готов признать ответственность редакции. Неудивительно, что советские исследователи, исходившие из представлений о цензоре только как об агенте репрессивного правительства, не обращались к этому эпизоду: он едва ли укладывался в их представления об истории литературы этого периода. Впрочем, даже в современных работах о Некрасове или об истории цензуры позиция современников практически не упоминается.
В литературной среде реформаторские планы Александра II и его чиновников были встречены с огромным энтузиазмом; подавляющее большинство литераторов, которым предлагалось участвовать в разного рода правительственных проектах, во второй половине 1850‐х годов отвечало на эти предложения согласием. Даже А. И. Герцен, не слишком любивший самодержавие, публично поддерживал позицию Александра II, резко критикуя оппонентов реформ на страницах «Колокола». В числе этих оппонентов он упоминал попечителя Петербургского учебного округа, то есть одного из руководителей цензурного аппарата:
Правда ли, что подозрительные люди, враждебные правительству, собираются всякую неделю у бывшего петербургского попечителя Мусина-Пушкина с целью порицания всех действий государя в пользу прогресса и развития (Герцен, т. 13, с. 19, статья «Правда ли?»).
В этом контексте кадровые перемены по цензуре и отмена Комитета 2 апреля 1848 года воспринимались по крайней мере некоторыми литераторами как значимая составляющая «духа времени» – эпохи реформ. Так, 8 декабря 1855 года Е. Н. Эдельсон писал своей жене Е. А. Эдельсон: «Петербург просто обдал меня благоприятными новостями: уничтожение негласного ценсурного комитета, университет в Сибири, перемена ценсоров – вот новости, которыми меня встретили»144. Писатели этого времени сохраняли определенную надежду на нормализацию отношений с цензурным ведомством. В конечном счете это ожидание было логично, если учесть убежденность в том, что государство настроено по отношению к ним в целом доброжелательно. Показательна в этой связи всеобщая поддержка, которой пользовались в литературных кругах «либеральные» цензоры. Так, цензор Н. Ф. фон Крузе, вынужденный уйти в отставку именно по причине своего чрезмерного либерализма, пользовался поддержкой широкого круга литераторов самых разных направлений145.
На этом фоне цензурный скандал 1856 года мог восприниматься – и воспринимался – не как очередной репрессивный акт правительства, а как ненужная и скорее вредная провокация со стороны редакции «Современника», отвергнувшей, по мнению многих литераторов, предложения власти пойти на контакт. Литературное сообщество было в большинстве своем убеждено, что конфликт инициировали именно сотрудники журнала, а вовсе не цензоры, хотя и не могло прийти к единому мнению относительно персональной ответственности редакторов и причин, вызвавших столкновение. Более того, в целом недалек был от такого понимания и сам Некрасов, который, впрочем, не был склонен считать себя виноватым.