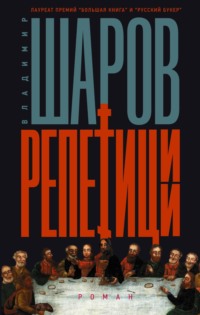
Репетиции
Но тогда то, говорил Ильин, для чего создан Богом человек, человек, которому дано творить добро и зло и который свободно изберет добро, будет творить добро и, значит, установит истинность, доброту Господня мира, окажется невыполненным, неудачей, и всё, что было после появления человека, всё зло – ненужным, простым порождением зла. И сделанное на земле праведниками – тоже ненужным, и нет у Бога никого, и, главное, добро не лучше зла, люди не выбрали его. Не захотели или не успели. И Христос останавливается.
Ильин говорил: чудеса творит Бог, и только в любви и жалости, равно свойственной Богу и человеку, мы можем угадать человека, но чем ближе к концу, чем ближе к Голгофе, к смерти, тем более виден человек. Голгофа и разделит их. Одному суждено – и Он знает это – умереть, Другой сподобится – и знает это – воскреснуть. Я не разделяю их, они одно, и всё же Бог не может умереть, может страдать, но не умереть, мир без Бога немыслим и мгновения этого для Него нет. Чем ближе к Голгофе, тем больше в Христе человеческого.
Ильин говорил: в Иерусалиме и на Голгофе Христос уже человек, но в Нем есть еще знание Бога. Он знает, что Его предаст Иуда, знает, что Петр трижды отречется от Него, знает, что будет распят, но всё идет по пути, давно начертанному, начертанному не Им, и Он не волен свернуть с этого пути. Он говорит Господу, молит Его: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты», – и дальше снова: «Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (Матф., 26). Но чаша не минует Его. Он будет распят на кресте, и таково одиночество человека в этом мире, так забыт и брошен он Богом, что Христос, ближе которого к Господу никого не было и нет, который был соединен с Ним нераздельно и прожил так нераздельно всю жизнь от зачатия, и тот возопит: «Элои! Элои! ламма савахфани?», что значит: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Марк, 15).
Ильин говорил: главное, что разделило Христа и евреев – дело Вараввы. Иуда был Его учеником, пошел за Ним, прошел с ним весь путь, и, как другие Его ученики, должен был уйти из евреев. Иуда Его слушал, с Ним возлежал, Его властью творил добро, он во всем отказался от пути еврея и, когда он предал Христа, он на этот путь отнюдь не вернулся, ему заплатили – и всё. Он хотел вернуться, хотел отдать деньги на храм, но их не приняли и, значит, его тоже и определенно не приняли, и Иуда, оставшись совсем один, один, как это только возможно, повесился. Оппозиция Христу – Варавва, из-за него народ говорит: кровь Христа на нас и детях наших, его выбирает спасти, когда встает вопрос – кого?
Варавву Лука называет разбойником, который произвел возмущение в городе, но все четыре Евангелиста отличают его от злодеев, казненных вместе с Христом, впрочем, за них народ и не просит. Кажется, Варавва был из тех, кто пытался поднять восстание против Рима. Я здесь не говорю, кого в таких случаях выбирали другие народы, дело не в этом. Христа и евреев разделило дело милосердия – и это поразительно, забудем даже, что оппозиция Христос – Варавва облегченная: Варавва заявлен разбойником, убившим человека, и даже так зададим вопрос: кто должен быть спасен – Бог, который через три дня воскреснет, или человек? Здесь смерть одного значила спасение другого, спасти одного значило осудить другого, и в этой ситуации правы, я думаю, евреи. Спасен должен быть слабейший, тот, кто сам себя защитить не мог и у кого не было защитника – Бога-Отца. Вопрос, кому спасти жизнь, человеку или Богу, – всегда человеку. Встав на сторону Христа, евреи должны были погубить человека. Это их цена.
В Куйбышевском университете я проучился почти три года, и месяца за четыре до нашего переезда в Томск, где отцу предложили место главного рентгенолога области, когда мы уже, что называется, сидели на чемоданах, я был записан на спецкурс, который назывался «Гоголь и сравнительное литературоведение». Я был записан принудительно, как и другие пятеро, по распоряжению деканата, потому что добровольца, кажется, не нашлось ни одного, и успел прослушать ровно половину курса – пять лекций. Читал их совсем дряхлый 80-летний киевский профессор философии по фамилии Кучмий, известный всему университету под кличкой «идеалист». Он и действительно был идеалистом во всех отношениях.
Владимир Иванович Кучмий успел составить себе имя еще до революции, потом, когда на Украине окончательно утвердилась Советская власть, он честно пытался перестроиться и даже написал двухтомную работу, называвшуюся, кажется, «История философии в свете исторического материализма». Однако то ли он перестраивался медленно и недостаточно правильно (двухтомник его был почти издевательски обруган), то ли просто плохо вписывался в предвоенную Украину, но в 40-м году его посадили, обвинив одновременно в пропаганде всё той же идеалистической философии и в украинском национализме. Просидел Кучмий почти пятнадцать лет, а когда в 55-м освободился, Украина, памятуя о национализме, принять его наотрез отказалась, и Москва после коротких размышлений предложила Кучмию полставки в Куйбышеве, но, естественно, не по кафедре философии, а на совсем тихой кафедре русской литературы. Мы были его последними слушателями – в том же году он ушел на пенсию.
Формально, повторяю, спецкурс, который он нам читал, был посвящен Гоголю, но до него Кучмий добрался только в конце третьей лекции. Интересовал его не Гоголь, а вычурная смесь литературоведения, социологии и бреда. Холодно и методично он объяснял нам, что люди, жившие на земле, целые племена и народы, в сущности, были никто или, во всяком случае, не более, чем фантомы и миражи, блуждающие по пустынным пространствам, – это его выражение. Отталкиваясь от данного тезиса, он долго рассуждал о бессмысленности и бесцельности земного существования, о сходстве между человеком и растением: равенство жизни, равенство смерти, и от каждого остается лишь одно – семя. Он говорил, что жизнь тех, после кого ничего не осталось, – иллюзия. И в самом деле, где всё, что с ними было? Ведь мы думаем, что они страдали, только по аналогии, только потому, что страдаем сами. Те, кто приходил, – ушли, ушли давно, и сейчас даже невозможно сказать, – зачем? зачем они рождались и жили, да и были ли они вообще?
Задав этот вопрос, Кучмий надолго замолчал, а потом так же холодно и спокойно вдруг стал объяснять, что перегнул палку, что он вообще перегибщик и в былое время из-за этого пострадал, теперь его долг – отказаться от своих слов. Методический отдел не раз указывал ему, что, называя людей, пускай уже умерших, фантомами и миражами, он искажает истину и вообще он недооценивает опыта других наук, например, археологии, которая со всей определенностью установила, что от каждого человека хоть что-то да остается. Даже если это одни кости, он не прав и тогда, потому что ни миражи, ни фантомы костей не имеют. Он согласен с высказанной в его адрес критикой и заверяет нас, что больше подобное им допущено не будет, но в то же время он говорил методическому отделу, а сейчас говорит нам, что ему свойственно впадать в полемический раж, что он вообще человек увлекающийся и с этим его недостатком, к сожалению, приходится считаться. В споре между ним и археологией, безусловно, права археология, стоянки и погребения – дело рук людей, это доказано и не вызывает никаких сомнений. Археология и вправду наука наук, она буквально воскрешает древних, если так пойдет дальше, мы будем знать их как самих себя и даже лучше. Недавно, продолжал он, всего в пяти километрах от города археологи раскопали сразу две стоянки наших земляков, а может, и предков, и ныне мы знаем, что одна из стоянок принадлежит культуре ленточной, а другая – культуре елочной керамики, что, кстати, хорошо соотносится с известным высказыванием Ленина о наличии двух культур в рамках одной национальной культуры.
После этого странного пассажа, он, видимо, посчитал, что отдал кесарю кесарево, и заявил нам, что этих бывших на земле людей правильнее всего именовать заготовками, полуфабрикатами того, что может быть названо «людьми живыми» (homo vitus). По словам Кучмия, от прошлого – древнего и совсем недавнего – до нас дошли только спутанные и нерасчленимые массы людей-прообразов, и связано это с несовершенством как самой людской природы, так и способа размножения. Люди невыраженны, аморфны, пластичны, они похожи на воск, говорил он. От времени и собственной тяжести они быстро теряют форму, сваливаются, спекаются, превращаясь в однородную, хорошо перемешанную массу, которая у историков получила название народа. От прошлого до нас не дошло ни одной личности, ни одного человека, ни одной своей чертой не сохранились даже те, имена которых мы знаем по первым лапидарным надписям.
Применяемый ныне способ рождения детей является на земле самым старым и самым примитивным, говорил Кучмий, основан он, как известно, на совокуплении двух полов, возможность единичного, самостоятельного размножения практически исключена. Соответственно, ребенок в лучшем случае – результат компромисса, обычно же – грубого, механического смешения двух индивидуальностей. Ни о какой органичности и преемственности не может идти и речи. Любой ребенок – метис, полукровка, со всеми присущими этой части человеческого рода недостатками. Тысячекратное смешение всех и вся со всеми, что, в сущности, является главным содержанием истории, – и есть виновник того, что человечество столь бессмысленно и бездарно…
«Но я надеюсь, – продолжал профессор, – что придет время, когда похоть, которая без остатка растворяет человека в себе подобном, растворяет то немногое, что может быть названо личностью человека, – восторг, испытываемый в эти минуты, лучше всего говорит, сколь ненавистна нам наша личность, наше отличие от других людей, – станет атавизмом и постепенно отомрет».
Тут к слову он вспомнил своего земляка Трофима Денисовича Лысенко и заявил нам, что многие недооценивают философского фундамента его взглядов на природу. Человек, как и всё живое, рожденный вульгарным смешением двух наследственностей, из которых каждая тоже была смешением, и так далее до начала жизни, может в редчайших случаях благодаря воспитанию и саморазвитию стать личностью, отсечь необязательное из своих генов и превратиться в сравнительно цельное существо. Каково, если кто-то пытается доказать, что его дети начнут с нуля, что он не способен биологически передать им ничего из накопленного?
«Проще говоря, – спросил Кучмий, – должны ли мы соглашаться с тем, что дети двух убежденных марксистов будут рождаться столь же аполитичными и безыдейными, как дети обычных людей? Можно ли тогда вообще утверждать, что сознание – высшая форма материи, если в этом главнейшем вопросе оно ежечасно пасует перед ней?»
Вторая лекция Кучмия была частью посвящена весьма странному литературоведению, частью – характеру и физиологическим особенностям писателей. Они, по мнению Кучмия, были тем отделенным и пока совсем малым отростком человеческого рода, который размножался высшим, возможно, совершенным способом. Если реальных людей Кучмий, как я уже говорил, считал заготовками, полуфабрикатами, простым набором свойств и признаков, то писатели производили на свет Божий истинных и правильных в своей законченности людей. Одни писатели размножались партеногенезом («Обратите внимание на сходство слов и сходство смысла, – сказал Кучмий, – как партия и партийные геноссе – товарищи – люди выверенные, проверенные, строго определенные и очерченные»), другие были двуполые, однако и первые и вторые равно рождали высших существ, чья жизнь длилась целые поколения, иногда даже тысячелетия, и никогда не прекращалась вовсе, в худшем случае замирала (он процитировал Лермонтова: «Но не тем холодным сном могилы… Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь»; а потом какого-то средневекового мистика, который сказал, что рукописи не горят, горит бумага, а буквы и написанное ими улетает, возвращается к Богу). За обычными людьми Кучмий признавал единственную роль – первого толчка, любим же мы, говорил он, знаем, помним, равняемся, подражаем – только литературным персонажам. Татьяне Лариной, например, или Павке Корчагину, и время помним – как их время.
«Кстати, – сказал Кучмий, – бо́льшая часть этих суждений о литературе принадлежит не мне, я лишь адепт, их автор – следователь по фамилии Челноков. Я обязан отдать Челнокову должное: за те восемьдесят лет, которые я прожил на свете, мне не встречался ум более глубокий и тонкий, и я, несмотря на все издержки, благодарен судьбе, что она нас свела. Когда я в сороковом году был арестован, два следователя, которые сначала вели мое дело, требовали, чтобы я признался, что добиваюсь отделения Украины от России и являюсь главой подпольной вооруженной группы, созданной для организации взрывов и диверсий (список ее членов мне дали). Я считал себя невиновным, ничего не подписывал, кроме старого греха – принадлежности к лагерю философов-идеалистов. Для большого процесса этого, конечно, было мало. Мне устроили так называемый „конвейер“. Месяц меня почти беспрерывно допрашивали и били, били и допрашивали, я уже давно был готов подписать на себя что угодно, только бы этот ад кончился, но оговорить людей, многих из которых я никогда не видел, я не мог, мне было страшно. Потом всё неожиданно кончилось, и я получил передышку. Лишь через неделю меня вновь повели на допрос. Дело теперь передали другому следователю, это и был Челноков. Он извинился передо мной за поведение своих коллег, заверил, что они будут строго наказаны, а дальше сказал следующее:
„Мы, чекисты, хотим и спасем вас, таких же, как вы. Это наш долг. Писатели призваны сыграть главную роль в нашей революции. В книгах, которые они напишут, будут жить только люди, точно и твердо знающие, что и как надо делать для ее победы, враги революции останутся как фон, а остальные, все, кто думает лишь о своей шкуре, хочет переждать, пересидеть, остаться в стороне, – все они должны быть искоренены, и память о них тоже. Эти люди должны будут исчезнуть навсегда, навечно, исчезнуть так, чтобы о них ничего не знали ни дети их, ни внуки, даже что они вообще были. От них ничего не должно остаться, они должны сгинуть, как сгинули и растворились среди других народов бесписьменные печенеги и половцы. Таков приговор, и литература приведет его в исполнение. Но мы, Владимир Иванович, мы, чекисты, спасаем этих обреченных. Все те, кто пройдет через наши руки, спасутся. Мы воскресим и многих из уже погибших. Год назад я добился папок для новых дел. На них написано: „Хранить вечно“. Подозреваемые боятся их, как огня. Они уверены, что из-за этой надписи мы, будто в аду, станем расстреливать их изо дня в день до скончания века. Какая чушь! Так они обречены, а эта надпись сохранит их, не даст сгинуть.
Вот ко мне ввели подозреваемого. Я пишу номер дела, его фамилию, открываю папку и начинаю допрос. У меня сразу есть версия. Но если я вижу, что она не подходит к обвиняемому, я легко отказываюсь от нее. Я говорю с ним каждый день и с каждым днем всё лучше понимаю его, всё легче подбираю ему связи, контакты, сообщников, наконец, то, что он совершил. Он никому не верит, ничего не понимает, всего боится. Он пытается объяснить мне, что ничего не смыслит ни в революции, ни в контрреволюции, что всегда хотел только спастись, спрятаться, переждать, что больше ничего не делал, что это не преступление.
Я слушаю его голос, самый темп речи, смотрю на его глаза, руки, он становится для меня ясным, близким, родным, и я уже без труда нахожу самое сложное – детали. Тут важна каждая мелочь: и место, и обстановка, и погода, и время. Разные люди по-разному ведут себя утром и вечером. Детали соединяют картину, делают ее живой. Если они подлинны, она сама начинает говорить с тобой. И вот приходит момент, когда обвиняемый понимает, что я прав, что это он и есть, что я, как отец, породил и создал его, – и он сознаётся. Наступает главное, то, для чего шла вся работа. Этот обычный человек принимается с блеском и талантом рассказывать о себе. Страха уже нет. Он говорит и говорит, он захлебывается и не может остановиться. Я пишу и с трудом поспеваю за ним. Он рассказывает мне поразительные вещи, вещи, о которых я, произведший его на свет, и не подозревал. Любой писатель знает – лучшие куски не те, что он придумал, а потом записал, а те, где, когда он писал, для него всё было новым, где он уже создал своих героев, они живые, и думают, и живут сами. Так же и мы. Поймите, разве нам нужен суд? Есть только вы и я“.
Здесь Челноков остановился, долго, словно припоминая, смотрел на меня, затем отвернулся и отошел в сторону. Лбом он прислонился к стене, руки его висели, и было видно, как он устал. Потом, по-прежнему стоя ко мне спиной, он сказал, что распорядится, чтобы меня перевели из камеры, где я сидел с уголовниками, в одиночку, в которой, как он думает, мне будет спокойнее и лучше.
„Пять дней вас никто не будет трогать – делайте что хотите, хоть спите целые сутки, но я прошу вас внимательно обдумать всё, что я вам говорил: кто, если не вы, философ, сможет понять меня“.
Этих пяти дней мне хватило, я увидел, что он прав, и когда меня снова отвели на допрос, сказал Челнокову, что он и его товарищи занимаются святым делом, действительно спасают людей, и поэтому я готов помочь им и подписать без изъятия всё, что они считают нужным. Однако у меня есть одно непременное условие: то, что он говорил, должно быть внесено в протокол перед моим признанием, чтобы не только не погибли навечно люди, входившие в мою организацию, но и эти его слова – объяснение и оправдание всех нас».
Далее Кучмий снова вернулся к половой жизни литераторов и сказал, что он уверен, что скоро везде основой демографической политики станет размножение культур чистых линий, какими являются писатели. Ведь они не только органичны и цельны, но и необычайно плодовиты. По самым скромным подсчетам, некоторые русские классики оставили после себя свыше тысячи прямых потомков, и это, если судить по Диккенсу и Бальзаку, отнюдь не предел. Первый час он закончил тем, что всем писателям должно присваиваться звание матери-героини с полным объемом причитающихся этой категории женщин льгот и привилегий. Нота была мажорная, уже прозвенел звонок, мы встали, и тут он каким-то мертвым голосом сказал, что у писателей нет материнского инстинкта: они самодостаточны и поэтому всегда убивают своих любимых детей. Они преступники и убийцы.
Второй час был посвящен социологии. Кучмий заявил нам, что давно назрела необходимость в полном и тщательном обследовании литературных героев. Сравнение с данными традиционных опросов позволит среди прочего дать совершенно точный ответ о соотношении того, что называется искусством, и того, что называется жизнью. Должны быть проанализированы не только численность, но возраст, социальное происхождение, брачность, количество детей, образование, профессии, квартирные и другие имущественные условия, которые в разные века были разные, сотни и сотни параметров, а также типы характеров, насколько счастливы в детстве, зрелости и старости и с чем это связано, кроме возраста; должны быть просчитаны встречающиеся в романах погода, еда, краски, запахи, болезни, вкусы, время года и время суток, пейзажи, настроения, особенно, если говорить о России, – ландшафты, деревья, цветы – словом, вся экология, и соответственно пересмотрены, если будет необходимо, наши традиционные представления, например, о длительности вечера в XIX веке: не два-три часа, как принято думать, а три четверти суток.
В своей третьей лекции Кучмий, наконец, добрался и до Гоголя. Судя по всему, Гоголь не относился к числу его любимых писателей. Походя он обвинил его в излишнем увлечении малороссийской живописностью и в использовании чужих сюжетов, потом отпустил несколько довольно плоских шуток о гоголевском носе, а дальше так, что мы сразу и не заметили, перешел к повести, носящей то же название, – «Нос». Мы думали, что он задержится на данной параллели, – всё направление лекции как будто вело к этому, – но он заговорил о другом. Сославшись на Виноградова, Кучмий сказал, что сюжет «Носа» бродячий, нос – герой многих анекдотов, анекдотом в первом варианте решалась и повесть, когда в конце концов оказывалось, что всё, случившееся с майором Ковалевым, было сном. Однако затем Гоголь переписал повесть: действие стало происходить наяву и сразу как бы повисло в воздухе, превратилось в полную и совсем незаземленную фантазию, вещь от этого совсем не проиграла, отнюдь, просто сделалась еще более странной. Но для Гоголя, сказал Кучмий, история Ковалева с самого начала имела не только это отстраненное и легкое, как всякий анекдот, решение, но и другое, куда более страшное: оно зашифровано в датах повести и дает всему, что было в «Носе», совсем иное объяснение и толкование.
Хотя действие во втором варианте и не сон Ковалева, оно идет в испорченное, искаженное, на самом деле никогда не бывшее на земле время, то есть как бы и не происходит вовсе. Если это время и есть, оно из мира дьявола, а не Бога.
Нос исчезает у майора 25 марта, в самый важный для человеческого рода день – в Благовещенье, когда судьба людей была решена и изменена, когда начался путь спасения. От Адама до этого дня грех и страдания людей множились и росли, в Благовещенье народы узнали, что будут спасены. 25 марта – день Благовещенья у католиков, 7 апреля – день возвращения носа к Ковалеву – у православных, и поскольку весь календарь и вся история человеческого рода идет от Благовещенья и от Рождества Христова и, значит, нового рождества человека, и вне Христа никакой истории нет и не может быть, то это время есть время мнимое, несуществующее. Время, когда благая весть, что родится Христос, уже была дана людям и еще не была дана, род человеческий знал, что будет спасен, и еще не знал, что скоро Христос, Сын Божий, будет наконец послан на землю, чтобы своей кровью искупить грехи людей. В сущности, эта разница в датах и в календаре, отнесенная туда, назад, на две тысячи лет, есть главное отличие веры православной от веры католической, и это расхождение, раз возникнув и с каждым столетием нарастая, рождает странное, поистине дьявольское время, время, которого нет и которого становится всё больше.
Гоголь, говорил Кучмий, от своей сумасшедшей матери унаследовал необычайно живое, зримое и такое реальное, что отрешиться, забыть его было нельзя, виденье ада. Этот ад с его муками, страданиями, грешниками всегда был рядом с ним, начинался сразу же там, где кончался Гоголь, а может быть, частью захватывал и его, был в нем. Эта постоянная близость с самых первых лет, как он начал осознавать себя, к вечным и нестерпимым даже мгновение мукам (никогда не оставляющие его болезни и боли – их преддверие, а никому не понятные спонтанные переезды-бегства и почти восторженная, полная веры страсть к ним и к дороге – надежда скрыться и спастись) осмысливалась, объяснялась и дополнялась им всю жизнь. Вслед за пифагорейцами и каббалистами он из цифр дат своего рождения, из места своего рождения, из своей судьбы построил и понял и то, кто есть он сам и какая роль предназначена ему в судьбах России, мира.
Гоголь родился там, где два христианства – католичество и православие – давно пересекались, сходились и врастали друг в друга, где братья по крови: поляки, русские, украинцы – и братья по вере – и те и те христиане – враждовали сильнее, ожесточеннее и дольше всего – в месте, где они убивали друг друга, и в самом деле дьявольском. Украйна, бывшая окраиной и для Польши и для России, была рождена их смешением и их ненавистью. То буйство нечистой силы, какое есть у Гоголя, – из его веры, что страна эта проклята и нет на земле места, где бы нечистой силе было бы лучше и вольготнее, чем здесь. Но той же верой был рожден и его пафос стоящего над всеми пророка и примирителя, соединителя и посредника, глашатая мира, братства, союза, терпимости между католиками и православными и учителя жизни, и вся его миссионерская деятельность, так плохо понятая современниками, и его жизнь после Украины сначала в столицах православия Петербурге и Москве, потом в столице католичества Риме, и мечта, наконец, осуществленная – поездка в Иерусалим – на родину начального, цельного, единого, нерасколотого христианства.
День рождения Гоголя по Григорианскому календарю – первое апреля – точно середина между католическим и православным Благовещеньем, нутро смутного, глухого времени – времени особой силы всякой нечисти, но и та дата, где должен был бы находиться компромисс между двумя церквами, где они могли бы сойтись, стать заодно и уничтожить нечистое время. В этой мистике дат вера Гоголя, что он как мессия предназначен соединить собой, а, может быть, и в себе самом католиков и православных – основание всего того, что он делал, чего желал и для чего жил, но также и безумие, и реальность, и страх, и невозможность бежать и скрыться от всякой чертовщины, которая искушала и окружала его, как когда-то Христа в пустыне. И в книгах он всегда хотел писать светлое и прекрасное, быть учителем, творцом идеального и чистого, гармонии, красоты, правды, а удавались ему одни карикатуры, почти дьявольские по точности и верности фигуры, явная нечистая сила во плоти, только зло удавалось ему писать талантливо, только фарс удавался ему, и когда перед смертью он сжег последнюю часть «Мертвых душ», это было его признанием, что писать и изображать он может лишь нечистое и неправедное в людях.