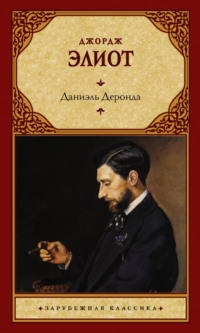
Даниэль Деронда
По этой причине сэр Хьюго Мэллинджер старался избегать ссоры с Грандкортом. Несколько лет назад, затеяв ремонтные работы в Аббатстве, он был вынужден просить у Грандкорта разрешение на вырубку леса в качестве строительного материала и с радостью обнаружил, что племянник не питает к нему ненависти. С тех пор не произошло ничего такого, что заставило бы обоих ненавидеть друга, и они поддерживали приличные отношения.
Грандкорт, в свою очередь, считал дядю занудой и досадным излишеством, полагая, что с его исчезновением с поверхности земли состояние дел в мире станет заметно лучше. Однако от Лаша – неизменного полезного посредника – он узнал о намерении баронета в отношении Диплоу и с удовлетворением воспринял легкий способ получить немалые деньги: даже не думая о том, чтобы их принять, он ощущал, как тешит самолюбие сознанием собственной власти, ведь ему ничего не стоило отказать сэру Хьюго в его желании. Намек на сделку стал одним из мотивов, побудивших племянника попросить разрешения провести в Диплоу год. Сэр Хьюго согласился крайне неохотно, опасаясь, что прекрасная охота в окрестностях склонит Грандкорта к мысли обладать поместьем и, соответственно, отказаться от сделки. Кроме того, Лаш как-то мимоходом сболтнул сэру Хьюго, что Грандкорт может завоевать благосклонность мисс Эрроупойнт: в этом случае деньги сразу утратят для него неотразимую привлекательность. Таким образом, во время неожиданной встречи в Лебронне баронет испытывал острое любопытство относительно состояния дел в Диплоу, старался держаться с племянником как можно любезнее и мечтал побеседовать с Лашем наедине.
Деронду и Грандкорта связывали особые отношения, основанные на обстоятельствах, суть которых нам еще предстоит объяснить, но и спустя час за общим столом, ни один из них не проявил даже тени досады.
После обеда, когда джентльмены вышли в большой зал, сэр Хьюго осведомился:
– Вы много играли в Бадене, Грандкорт?
– Нет. Только смотрел и изредка заключал пари со знакомыми русскими.
– Удача вам сопутствовала?
– Сколько я выиграл, Лаш?
– Около двух сотен, – с готовностью ответил тот.
– Значит, вы приехали сюда не для того, чтобы играть? – продолжил расспросы сэр Хьюго.
– Нет. Сейчас игра меня не интересует: адское напряжение, – ответил Грандкорт, поглаживая бакенбарды.
– Мой дорогой, следовало бы изобрести фабрику, способную производить для вас развлечения, – заметил сэр Хьюго. – Но я согласен с вами: сам никогда не любил играть, от монотонности мозги высыхают, – а сейчас даже смотреть не могу, сразу устаю. Никогда не задерживаюсь в зале дольше десяти минут. Но где же ваша азартная красавица, Деронда? Что-то ее не видно.
– Уехала, – лаконично сообщил Деронда.
– Невероятно привлекательная молодая леди. Истинная Диана, – продолжил сэр Хьюго, снова обращаясь к Грандкорту. – Стоит помучиться ради того, чтобы на нее посмотреть. Я видел, как она выиграла, но сохранила абсолютную невозмутимость, как будто все знала заранее. В тот же день Деронда стал свидетелем ее унизительного проигрыша, но и его она приняла с редким мужеством. Полагаю, у нее за душой ничего не осталось; или же хватило ума вовремя остановиться? Откуда тебе известно, что она уехала?
– О, всего-навсего из списка гостей, – ответил Деронда, едва заметно пожав плечами. – Вандернодт сказал мне, что ее фамилия – Харлет, а приехала она с бароном и баронессой фон Ланген. В списке я увидел, что имя мисс Харлет вычеркнуто.
Известие о том, что Гвендолин проводила время в азартных играх, не стало для Лаша новостью. Он уже успел заглянуть в список и убедиться, что она уехала, однако не счел нужным сказать об этом патрону до тех пор, пока тот не спросит.
Грандкорт, услышав имя мисс Харлет, не пропустил ни единого слова из разговора, а после короткой паузы спросил Деронду:
– Вы знаете этих Лангенов?
– Разговаривал с ними после отъезда мисс Харлет: правда, совсем немного, – а прежде ничего о них не слышал.
– А куда она уехала, вам известно?
– Домой, – ответил Деронда холодно, как будто желая прекратить разговор. Но тут же, подчинившись внезапному импульсу, пристально посмотрел на Грандкорта и добавил: – Не исключено, что вы с ней знакомы. Ее дом расположен недалеко от Диплоу: в Оффендине, в окрестностях Вончестера.
Во взгляде Деронды было столько жизненной силы и разных оттенков, что, когда он неожиданно на вас смотрел, мог испугать. Порою окружающим казалось, что они пропустили его слова. Так официанты или служащие часто машинально переспрашивали: «Что вы сказали, сэр?» – несмотря на то что он молчал. Когда Деронда посмотрел на Грандкорта, тот ощутил раздражение, которое, впрочем, выразил лишь легким движением век.
– Да, я с ней знаком, – проговорил он, как всегда растягивая слова, и отвернулся, чтобы посмотреть на игру.
– Ну и какова же мисс Харлет? – спросил сэр Хьюго Лаша, отходя от игорных столов. – В Оффендине она, должно быть, недавно. После смерти вдовы там жил старый Бленни.
– Слишком ее много, – тихо, многозначительно ответил Лаш, без сожаления посвящая сэра Хьюго в истинное состояние дел.
– Почему? Как? – удивился баронет.
– Еще недавно Грандкорт собирался на ней жениться, – пояснил Лаш. – Надеюсь, что теперь это намерение в прошлом. Она племянница священника Гаскойна из Пенникота. Матушка – вдова с целым выводком дочерей. За душой у девушки ничего нет, к тому же сама она опасна как порох и жениться на ней глупо. Однако мисс Харлет внезапно обиделась и, ни слова не сказав, сбежала. Так что Грандкорт явился сюда из-за этой своенравной особы, хотя и не слишком торопился, а учитывая капризы обоих, они вряд ли снова поладят. Но шанс жениться на богатой наследнице, он, конечно, упустил навсегда.
В эту минуту подошел Грандкорт и воскликнул:
– Что за мерзкая дыра! Хуже, чем в Бадене. Я возвращаюсь в отель.
Как только сэр Хьюго и Деронда остались вдвоем, баронет сделал вывод:
– Какая милая история. В этой девушке определенно что-то есть. За ней стоит побегать: она полна неожиданностей. Полагаю, ее появление на сцене повышает мои шансы получить Диплоу – независимо от того, чем закончится история с женитьбой.
– Хочется верить, что подобный брак не состоится, – с отвращением возразил Деронда.
– Что? Неужели она и тебя пленила?! – воскликнул сэр Хьюго, надевая очки, дабы рассмотреть выражение его лица. – Ты тоже склонен отправиться в погоню?
– Напротив, – ответил Деронда. – Скорее склонен бежать от нее.
– Что ж, ты с легкостью обойдешь Грандкорта в этом поединке. Девушка с таким характером сочтет тебя более подходящим женихом, – авторитетно заявил сэр Хьюго.
– Полагаю, подходящий жених должен обладать родословной и землями, – холодно заметил Деронда.
– Лучшая лошадь победит, невзирая на родословную, мой мальчик. Вспомни слова Наполеона: «Я – предок», – назидательно напомнил сэр Хьюго, по обычаю недооценивая аристократическое происхождение. Точно так же после сытной трапезы собеседники часто сходятся во мнении, что жизненные блага распределены с восхитительным равенством.
– Не уверен, что хочу быть знаменитым предком, – ответил Деронда. – Подобное происхождение не кажется мне самым ценным.
– Значит, вы не собираетесь бежать вслед за прекрасной дочерью азарта? – осведомился сэр Хьюго, снимая очки.
– Решительно нет.
Ответ вполне соответствовал правде. И все-таки в сознании Деронды мелькнула мысль, что в иных условиях он бы мог заинтересоваться этой девушкой и попытался познакомиться с ней поближе. Однако в эту минуту он ни в коей мере не чувствовал себя свободным.
Глава VI
Обстоятельства Деронды и в самом деле следовало считать исключительными. Один день запечатлелся в его памяти как главный момент в жизни: день, наполненный ярким светом июльского солнца и сладким ароматом роз, роняющих лепестки на зеленую лужайку, с трех сторон окруженную стенами готического монастыря. Представьте такую картину: тринадцатилетний мальчик лежит на траве в тени, склонившись над книгой и подперев руками кудрявую голову, в то время как его учитель сидит рядом на складном стуле, также погрузившись в чтение. Деронда постигает «Историю итальянских республик» Сисмонди. Мальчик питает страсть к истории и стремится узнать, какие события заполняли наступившие после потопа времена и как обстояли дела в периоды смут. Внезапно он поднимает голову, смотрит на учителя и чистым детским голосом произносит:
– Мистер Фрейзер, почему у пап и кардиналов всегда было так много племянников?
Наставник, одаренный молодой шотландец, в свободное от общения с учеником время исполнявший обязанности секретаря сэра Хьюго Мэллинджера, неохотно оторвался от книги по политэкономии и произнес твердым тоном, благодаря которому правда звучит вдвойне убедительнее:
– Племянниками называли их собственных детей.
– Но зачем? – удивился Деронда.
– Чтобы соблюсти приличия. Как тебе хорошо известно, католические священники не женятся, так что все дети пап и кардиналов были незаконными.
Выпятив нижнюю губу, последнее слово мистер Фрейзер произнес особенно жестко – исключительно из-за нетерпеливого желания вернуться к чтению – и снова сосредоточил внимание на книге. А Даниэль внезапно сел, словно кто-то его ужалил, и повернулся к учителю спиной.
Он всегда называл сэра Хьюго Мэллинджера дядей, а когда однажды спросил о родителях, баронет ответил:
– Отца и мать ты потерял, когда был совсем маленьким, поэтому я и забочусь о тебе.
Пытаясь что-нибудь различить в тумане младенчества, Даниэль смутно вспомнил многочисленные поцелуи и тонкую, воздушную, благоухающую ткань, но потом пальцы наткнулись на что-то твердое, стало больно, и он заплакал. Все другие воспоминания были сосредоточены на замкнутом мирке, в котором он обитал и по сей день. В то время Даниэль не стремился узнать больше: он слишком любил сэра Хьюго Мэллинджера, чтобы сожалеть об утрате неведомых родителей. Жизнь улыбалась мальчику лицом доброго, снисходительного и жизнерадостного дяди – красивого, полного сил мужчины в рассвете лет, которого Даниэль считал образцом совершенства, обитавшем в одном из лучших поместий Англии: старинном, романтичном и уютном. Особняк в Аббатстве-Топинг представлял собой живописно перестроенный монастырь, сохранивший остатки старинных стен. Второе поместье, Диплоу, располагалось в другом графстве на сравнительно небольшом земельном участке.
Оно пришло в семью по женской линии: от богатого юриста, носившего парик эпохи Реставрации, в то время как права на Аббатство-Топинг Мэллинджерам даровал Генрих VIII. Соседним поместьем, Кинг-Топинг, они владели с незапамятных времен.
История рода Мэллинджеров началась с некоего Хью де Маллингра – француза, прибывшего в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем и обладавшего слабой конституцией, счастливым образом укрепившейся в продолжателях рода. Два ряда предков – как прямых, так и косвенных, женщин по мужской линии и мужчин по женской – смотрели на Даниэля со стен крытой галереи. Мужчины в доспехах, с остроконечными бородами и тонкими выгнутыми бровями; стянутые корсетами женщины в кринолинах, с огромными воротниками-жабо; мрачного вида мужчины в черном бархате, с искусственно увеличенными бедрами, и прекрасные испуганные женщины с маленькими мальчиками на руках; улыбающиеся политики в величественных париках и напоминающие породистых кобыл леди с похожими на бутоны губами и тяжелыми веками. И так до сэра Хьюго и его младшего брата Хенли. Последний женился на мисс Грандкорт, вместе с поместьями приняв ее имя, и таким образом объединил два древних рода. Все преимущества многих поколений предков сошлись в личности того самого Хенли Мэллинджера Грандкорта, с которым мы пока знакомы лучше, чем с сэром Хьюго Мэллинджером или его племянником Даниэлем Дерондой.
Сэр Томас Лоуренс[18] изобразил молодого сэра Хьюго в сюртуке с загнутыми уголками высокого воротника и с широким белоснежным шейным платком. Художник достоверно передал приятно оживленное выражение лица и сангвинический темперамент, по-прежнему свойственные джентльмену, однако несколько польстил оригиналу, слегка удлинив нос, который на самом деле выглядел немного короче, чем можно было ожидать от носа истинного Мэллинджера. К счастью, правильный семейный нос сохранился в младшем брате и во всей аристократической утонченности передался племяннику Хенли Мэллинджеру Грандкорту. Однако во внешности племянника Даниэля Деронды не нашло отражения ни одно из представленных в фамильной галерее многочисленных лиц. И все же он оказался красивее всех предков, а в возрасте тринадцати лет вполне мог бы служить моделью для любого живописца, желавшего запечатлеть на холсте самый чистый и запоминающийся образ мальчика. Встретив этого ребенка и внимательно посмотрев ему в лицо, вы не могли не подумать, что его предки отличались благородством, но потомки вполне могут оказаться еще более благородными. Подобная возвышенная сила свойственна самым красивым детским лицам, и, созерцая безмятежные черты, мы испытываем опасения, как бы их не осквернили грязные, низменные начала и тягостные печали, неизбежные на жизненном пути.
В эту минуту, на зеленой траве среди лепестков роз, Даниэль Деронда впервые познакомился с подобной печалью. Новая мысль проникла в чуткое сознание и начала влиять на строй привычных мыслей точно так же, как внезапно появившаяся на небе опасная туча мгновенно влияет на счастливую беззаботность путешественников. Мальчик сидел абсолютно неподвижно, повернувшись спиной к наставнику, но лицо его отражало стремительную внутреннюю борьбу. Густой румянец, окрасивший щеки поначалу, постепенно сходил, однако черты сохраняли то не поддающееся описанию выражение, которое возникает, когда происходит новое осмысление знакомых фактов. Он рос вдали от других мальчиков, а потому ум его являл собой то причудливое сочетание детского невежества и удивительного знания, которое чаще присуще живым, сообразительным девочкам. Увлекаясь пьесами Шекспира и книгами по истории, Даниэль обладал способностью с мудростью начитанного подростка рассуждать о людях, родившихся вне брака и оттого обреченных на лишения. Чтобы занять положение, изначально дарованное законнорожденным братьям, им приходилось постоянно доказывать собственное равенство, проявляя героизм. Однако мальчик никогда не применял добытые из книг знания к собственной судьбе, казавшейся такой простой и понятной – до того момента, пока внезапное озарение не побудило сравнить обстоятельства собственного рождения с обстоятельствами рождения многочисленных племянников пап. Что, если человек, которого он всегда называл дядей, на самом деле не кто иной, как отец? Некоторые дети, даже моложе Даниэля, познают первые переживания, ворвавшиеся в жизнь подобно зловещему незваному гостю, когда обнаруживают, что родители, которые прежде покупали все, что хотелось, испытывают жесткие денежные затруднения. Даниэль тоже ощутил присутствие незваного гостя, явившегося с маской на лице и подтолкнувшего к туманным догадкам и ужасным откровениям. Интерес, прежде направленный на воображаемый книжный мир, теперь неожиданно сосредоточился на истории собственной жизни; он пытался объяснить уже известные факты и задавал себе новые, болезненно острые вопросы. Дядя, которого мальчик любил всей душой, предстал в образе отца, хранившего главную жизненную тайну и поступившего с ним дурно – да, дурно: ибо что стало с мамой, у которой его забрали? Спрашивать взрослых Даниэль не мог: любые разговоры на эту тему распаляли воображение подобно огненному столбу. Стремительный поток новых образов впервые в жизни захлестнул сознание и не оставил места для спасительной мысли о том, что душевный трепет вполне может оказаться порождением собственной буйной фантазии. Жестокое противоречие между непреодолимым потоком чувств и страхом разоблачения нашло выход в крупных слезах, медленно катившихся по щекам до тех пор, пока не раздался голос мистера Фрейзера:
– Даниэль, разве ты не видишь, что сидишь на книге?
Не оборачиваясь, мальчик тут же поднял книгу с травы, взглянул на смятые страницы и ушел в парк, чтобы незаметно вытереть слезы. Первое потрясение от догадки миновало, уступив место сознанию, что он не знает наверняка, как развивались события, и сочиняет собственную историю точно так же, как часто сочинял истории о Перикле или Колумбе – просто для того, чтобы заполнить пробелы биографии до того, как герои прославились. Однако было несколько обстоятельств, действительность которых не вызывала сомнений: так остатки моста безошибочно указывают расположение арок, – а еще через минуту страшная догадка показалась кощунственной, подобно религиозному сомнению, и оскорбительной, подобно клевете или низменной попытке узнать то, чего знать не полагалось. Вряд ли существовало чувство столь тонкое и деликатное, чтобы душа мальчика не смогла его принять. В результате мучительных переживаний мальчик взглянул на все события своей жизни в новом свете. Подозрение, что окружающие могут знать что-то, о чем не хотят упоминать, послужило основанием скрытности, несвойственной его возрасту. Отныне Даниэль прислушивался к словам, которые до этого июльского дня пролетели бы мимо ушей, а каждое незначительное событие, мгновенно связанное воображением с затаенными подозрениями, порождало новый фонтан чувств.
Одно из таких событий произошло спустя месяц и оставило глубокий след в сознании. Даниэль не только обладал волнующим детским голосом, способным распахнуть небеса и погрузить землю в райскую идиллию, но и отличался великолепным слухом, а потому очень рано начал петь, аккомпанируя себе на фортепиано. Вскоре его начали учить музыке, и обожавший мальчика сэр Хьюго неизменно просил его выступить перед гостями. Однажды утром, после того как Даниэль спел перед небольшой компанией джентльменов, которых дождь не выпускал из дома, баронет что-то с улыбкой заметил одному из слушателей, а потом позвал:
– Иди сюда, Дэн!
Мальчик неохотно встал из-за инструмента. Украшенная вышивкой полотняная рубашка подчеркивала румянец, а серьезное выражение лица в ответ на аплодисменты придавало ему необыкновенную прелесть. Все смотрели на юного исполнителя с нескрываемым восхищением.
– Что скажешь о будущем великого певца? Не желаешь завоевать поклонение всего мира и покорить публику, как Марио и Тамберлик[19]?
Даниэль мгновенно залился краской и после едва заметной паузы с гневной решимостью произнес:
– Нет, ни за что на свете!
– Ну-ну, довольно! – желая успокоить его, с добродушным удивлением проговорил сэр Хьюго.
Однако Даниэль стремительно отвернулся, убежал в свою комнату и уселся на широкий подоконник, служивший любимым убежищем в свободную минуту. Отсюда он часто смотрел, как заканчивается дождь, а сквозь просветы в облаках пробиваются лучи солнца и освещают огромный парк, где дубы стоят на почтенном расстоянии друг от друга, а лес в отдалении плавно переходит в голубое небо. Этот пейзаж всегда был неотъемлемой частью его дома – частью того благородного комфорта, который казался естественным и неизменным. Пылкая отзывчивая душа впитала его с нежностью и сделала своим. Мальчик отлично представлял, что значит быть джентльменом по рождению. Мало задумываясь о себе – поскольку обладал живым воображением и с увлечением погружался в приключения какого-нибудь литературного героя, – он никогда прежде не предполагал, что может лишиться привычного образа жизни или занять в обществе не то положение, которое занимал любящий и любимый дядя. Говорят (хотя сейчас мало кто в это верит), что можно любить бедность и с благодарностью ее принимать: радоваться дощатому полу, черепичной крыше и беленым стенам, не знать иной роскоши, кроме той, которая предназначена для избранных, и гордиться отсутствием привилегий, не назначенных самой природой. Известны аристократы, добровольно отказавшиеся от изысканного комфорта и просвещенной праздности ради тяжелого физического труда за небольшую плату. Однако вкусы Даниэля полностью соответствовали воспитанию: сцены повседневной жизни не вызывали в его душе ни скуки, ни досады, ни протеста – только восторг, любовь, нежную привязанность. И вдруг мальчика пронзило неожиданное открытие: оказывается, дядя – а возможно, отец – готовит для него карьеру, совершенно непохожую на собственную и, больше того – Даниэль отлично это знал, – недостойную для сыновей английских джентльменов. Он подолгу жил в Лондоне вместе с сэром Хьюго. Чтобы усладить детский слух, тот часто брал племянника в оперу на выступления прославленных теноров, так что образ заслужившего бурные аплодисменты певца ярко запечатлелся в сознании. Однако, вопреки несомненной музыкальной одаренности, сейчас Даниэль с горьким ожесточением восстал против предложения нарядиться в яркий костюм и выйти на сцену, чтобы петь перед благородной публикой, не способной увидеть в артисте ничего, кроме забавной игрушки. Тот факт, что сэр Хьюго хотя бы на минуту представил Даниэля в унизительном положении, неопровержимо доказывал, что было в его рождении нечто раз и навсегда исключавшее его из класса джентльменов, к которому безраздельно принадлежал сам баронет. Услышит ли он об этом? Придет ли время, когда дядя откроет правду? Даниэль со страхом представлял минуту признания; в воображении он предпочитал неведение. Если отец предавался греху – мысленно Даниэль выбирал самые сильные выражения, ибо ощущал душевную рану с той же остротой, с какой мальчик ощущает боль в изувеченной ноге, тогда как посторонние видят лишь результат обычного несчастного случая, – если отец поступал дурно, то пусть лучше для него тайна останется тайной. Известно ли что-нибудь мистеру Фрейзеру? Скорее всего нет. Иначе он не стал бы так прямо и резко отвечать на вопрос о племянниках пап и кардиналов. Подобно взрослым людям Даниэль воображал, что жизненно важный для него вопрос занимает в сознании окружающих столь же значительное место, как и в его собственных мыслях. Знает ли лакей Турвей? И старая экономка миссис Френч? Знает ли помощник шерифа Бэнкс, вместе с которым Даниэль часто объезжает фермы на своем пони? Внезапно вспомнился давний случай: несколько лет назад миссис Бэнкс угощала мальчика сывороткой, а помощник шерифа подмигнул жене, хитро засмеялся и спросил:
– Похож на мать, правда?
Тогда Даниэль подумал, что Бэнкс ведет себя глупо, как это часто бывает с крестьянами, смеющимися над тем, что не смешно. Его обидел и сам смех, и то, что о нем говорят так, как будто он ничего не слышит и не понимает. Но сейчас то мелкое происшествие наполнилось иным смыслом: замечание следовало обдумать. Как он мог походить на мать, а не на отца? Мать должна носить фамилию Мэллинджер, раз сэр Хьюго доводится дядей. Но нет! Возможно, его отец – брат сэра Хьюго, а фамилию сменил точно так же, как это сделал мистер Хенли Мэллинджер, женившись на мисс Грандкорт. Но в таком случае почему дядя никогда не говорит о брате Деронда, как говорит о брате Грандкорте? Прежде Даниэль никогда не интересовался генеалогическим древом: знал только о том предке, который в одном бою убил сразу трех сарацин, – но сейчас мысли устремились в библиотеку, к старинному шкафу, где хранились карты поместий. Там Даниэль однажды заметил украшенный вензелями пергамент, и сэр Хьюго объяснил, что это генеалогическое древо. Выражение показалось странным и непонятным – ведь тогда он был маленьким, почти вдвое моложе, чем сейчас, – и пергамент не вызвал интереса. Теперь Даниэль знал намного больше и мечтал изучить его. Он помнил, что шкаф всегда заперт на ключ, и жаждал проверить. Однако порыв пришлось сдержать – кто-нибудь мог его увидеть, а он ни за что не согласился бы признаться в мучивших его сомнениях.
Именно в таких переживаниях детства и закладываются основные черты характера, в то время как взрослые обсуждают, что ценнее в воспитании – естественные науки или классическая литература. Если бы Даниэль обладал менее пылкой и преданной натурой, скрытые переживания и предположение, что окружающие таят от него нечто неприглядное, могли бы возбудить в нем жестокость и презрение к людям. Однако врожденная способность любить не позволила негодованию и чувству обиды одержать верх. В мире не существовало ни одного человека, к которому мальчик не относился бы с нежностью, хотя порою безобидно поддразнивал – всех за исключением дяди. Даниэль любил его так преданно, как способны любить только дети: возможность находиться в одной комнате с отцом или матерью приносит им счастье, даже если те занимаются собственными делами. Цепочка от дядиных часов, его печати, почерк, манера курить, разговаривать с собаками и лошадьми – все мелкие особенности поведения в глазах мальчика обладали очарованием, равным счастливому утру и совместному завтраку. То обстоятельство, что сэр Хьюго всегда причислял себя к партии вигов, делало как тори, так и радикалов в глазах Даниэля одинаковыми противниками истины и добра. А написанные баронетом книги – будь то рассказы о путешествиях или политические памфлеты – обрели статус Священного писания.

