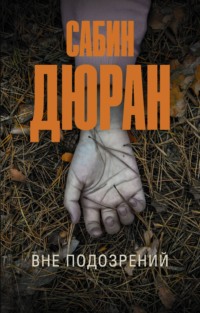
Вне подозрений
– Ну вот. – Энни делает шаг назад. – Так ты больше похожа на человека.
– Ты просто блеск! – объявляю я.
На самом деле это я – просто блеск. Пудра со светоотражающими частицами, мерцающие оттенки макияжа… Теперь я буду выглядеть вполне прилично. И никто даже не заметит, что у меня слегка подергивается веко. Впрочем, и эта внешность, и пышная прическа – уже не я. Честно говоря – пусть Энни об этом никогда не узнает, – в увеличительном зеркале я вместо себя вижу какого-то транссексуала. Старея, женщины превращаются в мужчин, а мужчины – в женщин. Не помню, от кого я это услышала. Увядание – такая гадость. Хотя, как говорит Клара, альтернатива намного хуже.
Может, следовало сегодня отпроситься? Или причина не слишком уважительная? Даже когда болела мама, шоу я почти не пропускала. Бывало, мне так и не удавалось прилечь; проведя кошмарную ночь у ее постели, я ранним утром мчалась по загородной трассе назад на работу. И улыбалась в камеру, а у самой на пальцах – невыветрившийся запах рвоты… Неужели почти у каждой женщины есть такое ощущение? Ощущение того, что наше место под солнцем – это лишь вопрос удачи? Одна оплошность, одно прегрешение – и мы уже вне игры? И все же сегодня, наверное, приезжать не стоило. Сталкиваясь с трагедией, иногда поначалу ее не осознаешь. Как-то у нас на программе была семейная пара; когда они уже готовились к отъезду с горнолыжного курорта, снегоуборочная машина завалила их малыша снегом. Ребенок задохнулся. Дальнейшее, казалось бы, не укладывается в голове: после того как эти люди отвезли крохотное тельце в больницу, они, ни на йоту не отклоняясь от первоначального плана, сперва на машине пересекли Альпы, а потом переправились домой на пароме по заранее купленным билетам. Знаю, то, что выпало на их долю, с моим потрясением не идет ни в какое сравнение; я просто хочу сказать, что в состоянии стресса люди совершают иногда такие дикости…
Энни довершает картину: в студии на кофейном столике стоит ваза с алыми гвоздиками, и на моих ногтях расцветает алый лак. У визажиста свои предписания: все должно сочетаться, важна каждая мелочь. Руки у меня трясутся, но Энни делает вид, что ничего не заметила. Я изо всех сил вжимаю ладони в лежащее на туалетном столике полотенце, и дрожь поднимается выше, к плечам.
Красные ногти. Красные цветы. Красное платье с длинными рукавами. Кровь и смерть, бескровная смерть… отметины на шее девушки…
Я помахиваю яркими кончиками пальцев:
– Энни, а не многовато ли на мне красного?
– В самый раз, – отзывается она. – Очень жизнеутверждающе, именно то, что нужно серым мартовским утром. Ты, как всегда, неотразима. Подними-ка нам всем настроение! Видит бог, это как раз то, что нужно!
Я никогда не мечтала стать телеведущей. Меня сюда просто занесло. Я работала корреспондентом и репортером, а потом мне сделали предложение, от которого Филипп пришел в бурный восторг, и «да» у меня вырвалось еще до того, как я успела подумать о возможности ответить «нет». Работа своеобразная – и не актерство, и не журналистика. Амбициозный человек вряд ли назовет ее пределом своих мечтаний. Дневные ведущие ни у кого не пользуются особым уважением. Мы символизируем легкомыслие и праздность и в пищевой цепочке находимся даже ниже, чем наши коллеги из «Новостей». «Милые мордашки и симпатичные попки; а внутри этой композиции – ничегошеньки» – вот слова знаменитой своими репортажами из «горячих точек» Кейт Эйди. «Когда мистер Блэр примется бомбить Багдад, – вторит ей популярный Ричард Ингрэмс, – нас поставит об этом в известность какая-нибудь блондиночка, сверкающая безупречной улыбкой».
Иногда я встречаю своих знакомых по Оксфорду, ровесников, ставших серьезными фигурами в издательском деле, в научных кругах; порой сталкиваюсь с ребятами, вместе с которыми проходила стажировку на Би-би-си – кто-то из них теперь режиссер «Панорамы», кто-то играет не последнюю роль в закулисной политической жизни. Эти встречи здорово меня закаляют. Как-то на вечеринке по случаю вручения Национальной телевизионной премии один тип, намекая на наш недавний сюжет – о запрете на продажу уродливых овощей и фруктов, – заорал мне через весь зал:
– Что нового в примитивном мире некондиционных бананов и недозрелых корнишонов?!
Когда-то мы вместе работали корреспондентами «Вечерних новостей». Понятия не имею, чем он занимался после этого, но рубашку носил, по-моему, еще с тех времен.
– Спусти штаны и увидишь! – мило улыбнулась я. За его столиком все заржали.
Вспоминая об этом теперь, я чувствую себя неловко. Это было вовсе не остроумно. И засмеялись они лишь потому, что я (капельку) звезда, знаменитость. Их подобострастное хихиканье было еще хуже его оскорбительной колкости. Считается, что дневные передачи смотрят только безработные со стажем, бездельники да хронические нытики; будто все, на что мы годимся, – это скрасить унылую тишину во время глажки белья. Звезда домоводства – вот кто я для них такая. Но я могу многое сказать в защиту своей профессии. Далеко не каждый с ней справится. Суть ведь не в красивой улыбке и не в обсуждении забавных законопроектов ЕС. Суть – в непосредственном обращении к зрителям, пусть не ко всем сразу, а по очереди, по одному; в том, чтобы найти с каждым общий язык. Мы со Стэном приносим в ваш дом настоящую жизнь, а это уже мастерство сродни искусству.
…Несмотря ни на что, сегодня я занимаю студийный диван первой. Энни говорит, Стэн любит оказаться в студии раньше меня и проехаться на тему моего отсутствия: и жизнь-то у меня, мол, «кипучая», и сама я «просто на части разрываюсь». Я не раз объясняла ей, что это лишь добродушное подтрунивание, безобидная репетиция тех колкостей и шпилек, которыми мы со Стэном обмениваемся в эфире и благодаря которым наше шоу пользуется таким успехом; что Стэн говорит не всерьез. Но боюсь, на самом деле все как раз наоборот: улыбки и дружеское похлопывание по плечу – это лишь милое прикрытие его истинного отношения, его стремления к превосходству и желания меня выжить. У него нет точной уверенности в том, что мне платят больше, но даже тень подобного сомнения для Стэна невыносима.
Администратор студии Хэл возится с микрофоном – пристраивает его в вырезе моего платья, закрепляя на чашечке бюстгальтера, – и я вспоминаю о бюстгальтере мертвой девушки. Похоже, на ней была надета так называемая многофункциональная модель, в которой бретельки можно застегивать по-разному: крест-накрест; на шее, как лямку от купальника, или вообще обходиться без них. Иначе как бы он мог расстегнуться спереди? Стараюсь прогнать прочь эти мысли, они кажутся мне слишком уж интимными – и тут в комнату неторопливо вплывает Стэн, обсуждающий что-то с режиссером Терри.
Увидев меня, напарник в притворном изумлении всплескивает руками:
– Мисс Марпл! Раскрывает убийство, помогает полиции с расследованием – и вовремя поспевает на работу! Или все-таки мисс Марпл в качестве образца для подражания несколько старовата? – Он подкручивает несуществующие усы и пародирует бельгийский акцент. – Может, Эркюль Пуаро?
Интересно, он с самого начала планировал войти в студию позже меня? Ведь высмеивать кого-нибудь гораздо легче, если смотришь на свою жертву сверху вниз, а не наоборот. Удобный случай, ничего не скажешь! Сейчас, когда моя жизнь вдруг встала с ног на голову, Стэну самое время продемонстрировать, какой он замечательный, надежный, уравновешенный и жизнерадостный сотрудник. Не то что некоторые.
– Не раскрывает убийство, Стэн-супермен, – усмехаясь, поправляю я. Терри ни за что не увидит, как мне тошно. Она дама жесткая и халтурщиков не выносит, но, если я смогу шутя парировать все нападки, будет на моей стороне. Я знаю, что расспрашивать меня дорогой напарник не станет, так что шанс упускать не собираюсь. – Не раскрывает убийство, а всего лишь обнаруживает убитого.
Стэн падает рядом, и диванные подушки подо мной раздуваются от вытесненного им воздуха.
– Если я решу с тобой побегать, отговори меня, – обращаясь ко мне, сообщает Стэн всей комнате.
«Доброе утро» полностью занимает пятый этаж высотки, расположенной в районе Саут-Бэнк. Из окна за моей спиной открывается вид на Лондон и Темзу, безупречно красивый, словно декорация. Наш отдел – бутафорская стена «а-ля склад», ковер с завитушками, уютные диванчики – находится в самом центре студии. Осветительная аппаратура – в полной боевой готовности. Гламурный, залитый светом островок красоты, лучик солнышка… А я сижу посреди всего этого очарования и думаю лишь об одном – какой же Стэн гад! Включается музыка, идет заставка, а он оттачивает остроумие на сидящих у противоположной стены осветителях и звукооператорах, на корреспондентах и красотке Инди, ожидающей своего выхода с обзором новостей «Твиттера», «Фейсбука» и электронной почты. Ну прямо не Стэн, а пошляк-регбист на гастролях:
– Как некрофилы называют гробовщиков? Сутенерами!.. Какая разница между педофилией и некрофилией? Восемьдесят лет!
Пытается вывести меня из равновесия. Может, его шуточки – это завуалированные намеки в мой адрес?
И вот мы в эфире. Я желаю всем доброго утра, произношу свою часть текста, а Стэн завладевает камерой: впивается в нее глазами и, не отрываясь, смотрит прямо зрителю в душу, будто именно он как никто другой эту душу понимает и чувствует. Я повторяю звучащие в наушнике слова приветствия, объявляю, что на кухне сегодня будет кукла из «Маппет-шоу», и нахваливаю наш конкурс на звание «Самого элегантного члена парламента». Анонсирую рубрику «Сегодня в печати», которую ведет Салли Берков; упоминаю псину, ставшую любимцем нации, и акушерку, получившую награду. А вот фейсбуковскую мать отдали Стэну. И когда он говорит о том, что в нашей программе чуть позже будет очень печальный сюжет, лицо у него мрачнеет, уголки губ опускаются.
– Год назад, – просто сообщает он, – четырнадцатилетний Сол, сын Мэгги Леонард, распрощался с жизнью из-за травли, которой подвергся в Интернете.
Напарник смотрит на меня, в глазах – участие и соболезнование чужому горю. Я сочувственно киваю, изображаю скорбную тень улыбки. Мы вместе в этой беде, я и Стэн. Он трет подбородок; скрежет щетины слышен только мне.
– Черный день, – ставит он финальную точку.
Несколько недель назад, после того как на ток-шоу «Вопрос времени» один из членов кабинета министров был обличен во лжи, мы пригласили в студию психолога – поговорить о языке тела и об искусстве обмана. По ее словам, дети, соврав, частенько прикрывают рот ладошкой; взрослые же дотрагиваются до подбородка или теребят манжеты в неосознанном желании скрестить руки.
Сегодня во время передачи я вынуждена тщательно следить за языком своего тела, потому что меня не покидает ощущение, будто я напрочь завралась. Мне нет дела до того, что делается в студии. Сегодняшние банальности кажутся поверхностными и скучными. Я с опозданием объявляю вступление Инди, приходится извиняться и посылать зрителям уморительную гримаску «ой, оплошала!».
– Да ерунда, не вопрос! – заявляет в ответ красотка.
Умиляюсь псу (оказывается, его зовут Билли), с которым играет Стэн, а сама жалею о том, что перед уходом из дома не проверила охранную сигнализацию, не сказала Марте, что добираться в школу через парк опасно, лучше объехать. Я ничего не соображала. А ведь надо было принять хоть какие-то меры безопасности.
Интервью с Мэгги Леонард. Я сижу, склонив голову набок. Мы знаем, какими словами в это время дня пользоваться допустимо, а какими – нет. Произносим «ушел в другой мир», «распрощался с жизнью», «больше не с нами», «оставил вас». Лезем вон из кожи – только бы избежать слова «умер»…
В машине по дороге домой прислоняюсь лицом к стеклу. Наконец-то можно расслабиться, какое облегчение! Мысли крутятся вокруг несчастной девушки. Машина останавливается и трогается, дергается и разгоняется. Я сильно ударяюсь подбородком, стукаюсь лбом. Напряжение в шее отпускает. Мой водитель Стив болтает о вчерашней игре в дартс и дорожных работах в районе Элефант-Касл.
– Достала уже эта погода, – бурчит он. – И не холодно, и не мокро, и не жарко. Ни то ни се, правда? Март в этом году – просто ни то ни се.
Витрины магазинов, рифленые крыши, круговое движение, входы в метро, строительство – подъемные краны и перфораторы; граффити, украшающие навесы… Ничего не исчезло… Все как всегда… С хорошими людьми происходят разные ужасы. Разбиваются автобусы и гибнут дети. В Конго насилуют и калечат женщин – об этом на днях была передача. Друзья рассказывают о чьих-то трагедиях: внезапный сердечный приступ у молодого мужа, лейкемия у отважного шестилетнего ребенка. Такие события задевают за живое, сжимают по ночам сердце. Не верится, что подобное возможно… Но, вскользь соприкоснувшись с нашей жизнью, все эти кошмары отскакивают от нее, словно ударившийся о ветровое стекло камешек, чей крошечный след – надколотую щербинку в уголке окна – мы, к нашему стыду, очень быстро перестаем замечать. Мы озабочены собственным жалким существованием, тревожимся о своих ничтожных проблемах – безразличие мужа, заносчивость коллеги… И вдруг… Эта смерть совершенно меня оглушила. Вот она, рядом. И никто не застрахован от опасности. Мы живем в мире, где люди убивают друг друга. Смерть не всегда бывает медленной, растянутой на месяцы и годы, как у моей мамы. Она может настичь мгновенно, прийти извне. Пара секунд… удавка на шее… рывок… Вот и все. От этих мыслей мне становится дурно, все вокруг плывет… будто я вот-вот потеряю сознание.
Машина, подрагивая, останавливается на светофоре. Моя идеальная жизнь… Какой от нее толк, когда случается такое? Ни малейшего… Я думаю не о смерти девушки, а о ее рождении. Ее матери. Родителях. Школьной поре. Летних каникулах. Работе. Семье. Друзьях. Любимом мужчине… Знают ли они уже? Удалось ли выяснить, кто она такая? Кем была… Любила ли свою жизнь или мечтала ее изменить? Несмотря на то что в машине тепло, меня начинает трясти.
Айфоновское новостное приложение молчит. В разделе «Сенсации дня» – никаких свежих сообщений. Может, это и не новости вовсе? Не знаю… Вот выловленный в Лаймхаусе из воды обрубок тела или дрейфующий по Регентскому каналу мусорный мешок, набитый конечностями, – это были новости. А нерасчлененные целые тела… Вдруг с ними все не так? Может, в целостном теле нет ничего необычного? И их находят в парках многочисленных пригородов – Бекслихита, Саутхол-Грина, Кроуч-Энда – каждый день? Что сейчас считается нормальным? А что – нет? Не представляю…
Поток машин окончательно замирает – выползший на перекресток со стороны Валворс-роуд бункеровоз перекрыл движение во всех направлениях. Вопли клаксонов. Клубы выхлопных газов.
– В этих грузовиках за рулем сплошные идиоты! – возмущается Стив. – Ни малейшего уважения. Все они одинаковые. Небось бывшие заключенные. На дороге возле моего дома с таким грохотом переезжают через «лежачих полицейских» – будто бомба взрывается. И ведь наверняка специально! Психи! – И без капли сочувствия добавляет: – Вешать их надо!
Затор рассасывается. Лаская колесами асфальт, мы беспрепятственно скользим по Кеннингтон-Парк-роуд, и сердитый Стив, чтобы поостыть, открывает окно и выставляет наружу локоть. Он продолжает негодовать, а свистящий в ушах ветер подхватывает его слова и уносит прочь – мимо входа в метро Оувал, мимо церкви Святого Марка… Времени у меня не так уж много. Возле Клэпхэм-Коммон Стив успокоится и поднимет стекло. Я должна буду поинтересоваться, как дела у его жены – у нее сегодня поход к гинекологу, – выяснить, прошла ли его дочь Сэмми собеседование. И я это непременно сделаю, когда окно закроется. Но пока грех не воспользоваться подходящим моментом: если сейчас позвонить Кларе, можно будет застать ее в учительской, редкий шанс пообщаться спокойно.
– Привет, Габи Мортимер. – Подруга всегда озвучивает мое имя, высветившееся на экране ее «Нокии». На заднем плане из трубки слышен какой-то шум: то ли перестук колес медленно ползущего поезда, то ли звон посуды, сгребаемой с подносов школьным буфетчиком. – Это ты?
Я откашливаюсь:
– Привет, Клара Макдональд.
– Ура, пятница! – объявляет Клара. – Жду не дождусь, когда попаду наконец домой, нырну в горячую ванну, уделю время детворе – готовит сегодня Ник – и плюхнусь на диван смотреть «Безумцев». У меня гора всякой писанины, подготовка к урокам, но чувство вины залегло в спячку: память у нашего «Скай-плюс» переполнена, сериал записывать уже некуда, надо бы почистить, а то этот «Скай» начнет сам лишнее удалять. Или это просто байки, что он такое умеет? А, какая разница! Посмотрю немножко телик – вот и разгружу ему память.
На душе становится веселее от одного ее голоса. Мы дружим со школы, и Клара Макдональд для меня – просто совершенство, идеальнее вряд ли придумаешь.
– Что такое? – мгновенно расшифровывает она мое молчание. – Кто тебя расстроил? Филипп? Опять ведет себя как козел? Или тот придурок-красавчик с работы?
– Оба. – Мне уже почти смешно. – Козел, он и есть козел, а придурок остался придурком. Но это еще не все…
Господи, как же ей сказать? Какие выбрать слова? Начать бодренько, как будто в предвкушении новой сплетни: «Представляешь, что со мной сегодня стряслось»? Или честно признаться: «Слушай, тут скоро в новостях расскажут… так что я хотела, чтобы ты узнала от меня»?… Никак не могу решить. Меня не устраивает ни то, ни другое. Первый вариант попахивает откровенной черствостью. А второй… Как, сообщая человеку нечто чудовищное, не сбиться при этом на характерный «елейно-блаженный» (по выражению моей любимой тетушки) и при этом лицемерно-ханжеский невнятный лепет? Сочетание просто убийственное. И еще я уверена, что Клара станет мучительно, до слез, сочувствовать моей душевной травме. А я такого не заслуживаю. Это будет несправедливо. Ни капли.
Я мысленно вижу подругу: стоит посреди учительской, вокруг нее суетятся коллеги, с плеча свисает текстильная сумка с логотипом книжных магазинов «Даунт букс», в заднем кармане – хлоп, хлоп, на месте ли? – электронный проездной «Ойстер». Она, скорее всего, уже в пальто (вещица из твида, куплена в «Примарке», и Клара зовет его «Примарчик»), шею уютно обвивает полосатый шарф. Дверь приоткрывается, в нее просачивается шум забитого детворой коридора; кто-то из учителей любезно предлагает подбросить до метро…
Стив закрывает окно, и я отказываюсь от мысли огорошить Клару. Поговорю с ней позже, когда она не будет спешить. А я немного остыну и буду в состоянии принимать случившееся не так близко к сердцу. И я, старательно следя за тоном, жизнерадостно объявляю:
– Хотела накануне выходных узнать, как ты.
– Я на полпути к своему домашнему вавилонскому столпотворению. – Голос у нее беззаботный. Совершенно.
На кухне за столом сидит Марта – не ест, просто флегматично листает журнал «Грациа». Она, по-моему, вообще никогда не ест. И меня это беспокоит.
Прошлым летом на меня вдруг навалилось все сразу: беременность нашей предыдущей няни Робин, умирающая мама… И решение я принимала не совсем обдуманно. Может, задавала не те вопросы. В общем, наняла няню, мало что соображая, в состоянии жуткой паники. И теперь эта няня меня тревожит. Дело вовсе не в том, что она не ест приготовленную мной еду – до Мишеля Ру мне очень далеко. Дело в том, ест ли она вообще. И когда? И что? А вдруг я должна об этом заботиться? Ей ведь всего двадцать четыре. Может, она тоскует по дому, или у нее какое-нибудь расстройство пищевого поведения, и мне не мешало бы об этом знать? Я представляю себе Марту, тайно поглощающую батончики и кукурузные хлопья, сыр и луковые чипсы…
Милли на гимнастике, назад ее подвезут. Со стиркой Марта разобралась. Ровные стопки джемперов и футболок – в том числе и чистая выглаженная одежда, в которой я бегала сегодня утром, – ждут, пока их разложат по местам. Кухня из светлого полированного гранита поражает порядком, полы блестят. Стóит распахнуть ослепительно сверкающие дверцы подвесного шкафа – и глазам предстанут коробочки с крупами и баночки с джемом, чинно выстроившиеся в ряд. Опрятность – это еще один Мартин пунктик. Единственным ее требованием при въезде в дом были латексные перчатки для уборки, облегающие руку, словно вторая кожа. Я знаю, что должна радоваться. Филипп вот чувствует себя как рыба в воде – наконец-то вокруг него обстановка под стать его умственным способностям. А мне неуютно. Уж лучше бы Марта вообще ничего не мыла и не была такой чистюлей. Приехавшая из Новой Зеландии Робин, которая прожила с нами семь лет, до прошлого лета – пока не забеременела, не вышла замуж за своего фермера и не укатила к нему на восток Англии (до чего же бесстрашная девчонка!), – оказалась невероятной грязнулей, и меня это вполне устраивало. Она стала членом семьи. Мы все – ну, по крайней мере, она и я – были единым целым. Марта совсем другая, она воспринимает меня исключительно как работодателя. Я понимаю, всем бы такие проблемы; понимаю, что пора выбросить эту ерунду из головы, но мне бы так хотелось, чтобы мы с няней были друзьями…
Я тихонько завариваю чай – настой имбиря с лимоном, хорошо для нервов – и усаживаюсь на скамейку. Марта безропотно отрывается от журнала, поднимает голову – думает, что я хочу пообщаться, и сразу же напрягается. Но надо же рассказать ей о случившемся! Не хочу пугать, объясняю я, но быть осторожной не помешает. Всегда проверять, заперты ли двери и окна. Не ходить через парк – ни вдвоем с Милли, ни в одиночку. Нужно быть начеку. Неизвестно, кто там у нас объявился, говорю я в надежде заметить хоть какой-то отклик – проблеск чувства, может, даже тревогу. Что угодно, только бы не эта ее бесстрастная невозмутимость!
Девушка смотрит на меня, не отрываясь, длинные черные волосы обрамляют лицо. Я умолкаю, а она отводит глаза в сторону, прикусывает заусеницу, теребит ее большим пальцем. Когда она с Милли, то всегда соблюдает осторожность, говорит Марта. И всегда проверяет, включила ли охранную сигнализацию. Может, у меня разыгралось воображение, но тон у нее защищающийся – будто я выдумала эту историю специально, чтобы придраться к няне. Наверное, я как-то не так выразилась и чем-то ее задела.
Взгляд падает на открытый журнал. На развороте – фоторепортаж о Пиппе Миддлтон, и вся страница – в каракулях, выведенных Мартиной рукой. Не каракулях даже, а в штрихах и черточках, будто наша няня исцарапала Пиппе Миддлтон лицо.
Я интересуюсь, как продвигается ее учеба – Марта занимается английским в Тутинге. Упоминаю о баре неподалеку от ее курсов; говорят, в нем любит собираться молодежь и там очень живенько. Господи, ну как я разговариваю?! «Очень живенько»?… Черт возьми… Неудивительно, что она меня едва выносит. Трель дверного звонка спасает от необходимости поддерживать беседу дальше.
На крыльце спиной ко мне, слегка пригнувшись, стоит высокий темноволосый мужчина в грязно-зеленой вощеной куртке. Притянув к себе ветку растущего у дорожки оливкового дерева, он почти уткнулся в нее носом и рассматривает листики. Незнакомец ждет на долю секунды дольше, чем необходимо, потом поворачивается ко мне и спрашивает:
– Что, собственное масло делаете?
Инспектор Периваль.
– Эти деревья посадили всего месяц назад, – отвечаю я. – Нам полностью переделывали сад – и здесь, перед домом, и за ним. Фирма «Мадди Веллис». Я еще ничего не планировала. Да и к тому же оливковых деревьев всего три, так что даже при большом желании и благоприятной погоде – вряд ли.
Он делает шаг вперед и разводит руки в стороны, будто расстояние измеряет:
– Милый особнячок. Для троих, правда, великоват.
Чтобы не выказывать удивления по поводу его осведомленности обо мне («для троих»?), я запрокидываю голову и тоже обозреваю свой дом. Словно вижу его впервые. Словно здесь живу не я, а кто-то другой. Свежие швы красной кирпичной кладки, выстроившиеся в три этажа окна, изящно заостренный конек крыши в викторианском стиле, густо переплетенные стебли недавно посаженной глицинии…
– Мой сотрудник, – небрежно добавляет Периваль, – говорил, что соседняя хибарка обошлась владельцам в пять миллионов.
Я краснею. Он просто поддерживает разговор, но мне отчего-то неловко. Не понимаю, зачем он это сказал. Мы так и стоим, разглядывая то дом, то друг друга, и я не представляю, что делать дальше. И тут он произносит фразу, которая ввергает меня в ступор. Ведь я надеялась, что мое участие в этой истории окончено. Думала, все уже позади…
– Можете уделить мне время?
Пока я стояла в дверях, Марта испарилась. Незаметно выскользнула из кухни; должно быть, убежала наверх, хотя шагов я не слышала. Поглаженное белье исчезло. И моя чашка с недопитым травяным чаем – тоже. Наверное, няня убрала ее на место, в посудомойку. Она умудряется ставить на место и меня…
Предлагаю инспектору присесть. Не тут-то было, он предпочитает остаться на ногах. Чтобы чем-нибудь себя занять, наполняю из-под крана чайник. Когда Периваль двигается, его обувь издает слабый звук, едва слышное поскрипывание кожи. Туфли полицейского – коричневые броги с перфорированным мыском – наводят на мысль о Джермин-стрит с шикарными магазинами мужской одежды, об эксклюзивных обувщиках, создающих каждую пару вручную.

