
Литература как жизнь. Том II
Ярчайшее около-театральное и вообще одно из ярчайших моих впечатлений творчества – человек с фамилией Виноградов-Мамонт. Ряд вечеров в Доме Актёра Мамонт рассказывал, как сразу после революции решил он создать Театр трагедии. Кто был такой этот Мамонт, что за место занимал в театральном мире, я понятия не имел: на первый вечер немного опоздал и не слышал, как представили оратора. Вечер вела пожилая дама, говорившая «Николай-Глебыч» и больше ничего. Переизбыток ли трагедийности в жизни помешал осуществлению замысла, осталось неизвестным. Уклонились, по его словам, от участия все, за исключением Шаляпина, Горького и профессора М. Н. Розанова. Стали собираться на петроградской квартире у Мамонта обсуждать мировые трагедии. Нехватку участников для создания театральной труппы возмещали содержательностью суждений. Каждый говорил о том, как поставил бы «Царя Эдипа» или «Короля Лира». Разборы ли сказались на дальнейшей судьбе хозяина трагедийной квартиры, как и почему, осталось неизвестно, мне по крайней мере. А рассказчик рассказывая говорил без запинки и бумажки. Красноречие и такт выступавшего сказывались в дистанции, какую он выдерживал, рассказывая об участниках обсуждений и собственном участии. Не помню, чтобы он хоть раз упомянул, как он тоже высказался, он выступал свидетелем-хранителем, рассказывая, как один за другим высказывались участники собраний, и какие участники! Мамонт как медиум передавал, о чем и что при нем говорилось. Его осведомленность без малейшего нажима и самоутверждения проявлялась в том, как он произносил «Вы бедные, нагие несчастливцы» или «Король, от головы до ног король», давая интонацией понять, как те же строки произносились из поколения в поколение и в чем заключалось особое истолкование знаменитых реплик Горьким или Шаляпиным.
Один раз Мамонт отклонился от прямого повествования и рассказал, как они с Шаляпиным пошли в зоопарк. С детьми. «Шаляпинские дети и мои, – говорил Николай Глебович, – всего семеро». После осмотра зверей надо было покормить ребят. За едой один за другим дети стали Шаляпина просить показывать им разных животных, ими только что увиденных. Лев и слон, бегемот и носорог тут же возникали перед ними, вызывая восторг, и Шаляпин с удовольствием исполнял их заказы. «Папа, – вдруг попросил самый младший, – представь таракана». Мамонт замолчал и паузой дал понять: Шаляпин принял вызов всерьез и просьбу исполнил не сразу. «Не помню другого случая, – с расстановкой продолжил старый театрал, – чтобы я видел ещё такое актерское перевоплощение». У меня, когда я слушал Мамонта, было ощущение светопреставления. Внимая рассказчику, я ничего не записывал. Подразумевалось, что он свои предания опубликует. Ограничится ли устными воспоминаниями, какими делился с нами? Вышедший из небытия, словно ископаемое существо, Мамонт, казалось, канул в вечность вместе со своими невероятными рассказами: никаких книжных следов его найти я не смог. Недавно Виноградов-Мамонт всплыл на Интернете, но, странно, во всех материалах о нём нет ни слова о Театре трагедии.
«Актер нас убеждает».
Ответ Кугеля на вопрос, что такое талант.Попал я в Дом Актера на представление устного журнала, несколько задержался, вошёл в зрительный зал и уселся, когда со сцены уже выступал стройный, подтянутый, пожилой актер, видом, речью и манерой держаться напоминавший нашего школьного преподавателя математики, бывшего гимназического учителя Василия Васильевича.
«Как же Борис постарел!» – вырвалось у сидевшего рядом со мной. Тон соседа говорил о том, что он хорошо знал «Бориса», однако давно не видел. То было время реабилитаций и, судя по некоторым признакам, соседом оказался один из вернувшихся. «Кто этот Борис?» – спрашиваю. Ответ: Бабочкин. Это – Чапаев?!
Фильм «Чапаев» станет, я думаю, «Давидом» советской эпохи. Иерархия киновеличин пока держится другая, но время ещё скажет своё слово. Когда у нас многие, особенно иностранные фильмы не показывали, мы сотрудниками ИМЛИ были допущены в кинохранилище и видели хваленые шедевры 60-х годов, в основном французскую «Новую волну»: кино для киношников запомнилось приемами, кадрами, почерком режиссера[5]. В то же самое время над главным персонажем «Чапаева» пытались смеяться, но ведь ирония в отношении к «Василь-Иванычу» есть в самом фильме: «Чапай думать будет!», а это означает, что фильм неуязвим. Можно иронизировать над исполнением роли Гамлета, нельзя иронизировать над Гамлетом, он сам над собой иронизирует: «Кто бы избежал кнута, если бы с каждым из нас обращались так, как он того заслуживает?». Потешаться можно над теми, кто себя не осознает, а в «Чапаеве» всё продумано и умно. «Помнишь атаку капелевцев и как они умирают? Как герои!» – слова Димки Жукова. В самом деле, это же белое офицерство в советском шедевре. Камея киноискусства – исполнение заглавной роли. Станут фильм смотреть по другому, будут всматриваться в актерское создание, как всматриваются в скульптурную и живописную классику. А в искусстве остается в конечном счете сотворенный живой человек. Все прочее дряхлеет, сохраняя интерес для изучающих историю стилей.
Создатель Чапаева, выступавший со сцены Дома актера, ничуть не походил на свое создание. Контраст ошеломил меня настолько, что я перестал слышать, о чем Бабочкин говорил. Недавно в Интернете я обнаружил его литературный портрет, написанный собратом-актером[6]. Из описания следует, что Бабочкин чувствовал себя пленником собственного завораживающего создания 30-х годов и всё искал, в кого бы еще воплотиться. Тиски жанра и плен амплуа: Конан Дойль, чтобы высвободиться из-под тени Шерлока Холмса, стремился стать историческим романистом, и у него получалось неплохо, да не то! Эдварду Лиру казалось мало популярности его лимериков, он хотел славы живописца. Живопись сносная, но бессмертны его бессмысленные строки. Из того, что вспоминающим Бабочкина упомянуто и названо шедевром, я видел «Скучную историю». Это было… скучно. А что из ролей Бабочкина произвело на меня впечатление чудесного перевоплощения, в тех же мемуарах лишь упомянуто – горьковские «Дачники».
Спектакль, выпущенный в Малом театре, пришелся к началу конца советского времени. Чувствовалось, что старые песни нашей эпохи пропеты до конца, их стали подвергать деконструкции, разрушительному перетолкованию. На десятилетнем юбилее журнала «Вопросы литературы» в присутствии официальных лиц Вадим Кожинов спел под гитару песню Гражданской войны «Красная армия всех сильней» и к строке «Царские тюрьмы сравняем с землей» прибавил: «И на развалинах царской тюрьмы новые тюрьмы построим мы». Вадима не привлекли к ответственности, официальные лица, пока он пел, безмолвно поднимались со своих мест и, ускользая, покидали зал. В такой общественной атмосфере представленная в «Дачниках» картина духовного разброда обрела актуальность.
Максима Горького сейчас поносят, не перечитывая и не читая, а выхватывая моменты из его биографии. Если моменты выхватывать из чьей угодно биографии, мало от кого что останется. Судите всякого по делам его, говорит Писание, Байрон считал: дела писателя это его слова, и с Байроном согласился Пушкин. Чтобы привлечь Горького к суду истории за слова, достаточно положить на весы критического правосудия «На дне». Пьесу ставят во всем мире, как ставят «Гамлета» и «Трех сестер», ставят, как «Гамлета», переодевая в костюмы других времен и стран, ночлежников Хитрова рынка превращают в японских румпэнов или делают их американскими пьяньчужками, как в пьесе Юджина О’Нила «Продавец льда грядет»[7]. Горького вычеркнуть можно вместе с его влиянием, какое было испытано крупнейшими писателями ХХ века.
«Дачники» в свое время считались полемическим продолжением «Вишневого сада». Персонажи горьковской пьесы – горожане, о приходе которых в чеховской пьесе пророчил Лопахин: «всё разберут», если старинное поместье продать, а землю разбить на участки и «отдавать потом в аренду под дачи». Поднявшиеся из низов и зажившие обеспеченной жизнью мещане сняли дачи на участках, выкроенных из поместья. Один из дачников, вроде моего деда Бориса, инженер из рабочих, Петр Иванович Суслов занимает хорошую должность, обеспечен высокой зарплатой, такой директор в постсоветское время, пожалуй, приватизировал бы государственное предприятие. Бабочкин взял эту роль на себя и создал анти-Чапаева – человек из народа, ушедший от народа русский сноб. Вся пьеса, непервостепенная у Горького, риторическая и монотонная, словно вспыхивала с монологом Суслова в последнем акте. Это было, как в скучной опере, когда все ждут заключительной арии, ради этого и приходят на спектакль.
«Да, да… – кипятится Суслов, – мы все здесь – дети мещан, дети бедных людей… Мы, говорю я, много голодали, волновались в юности… Мы хотим поесть и отдохнуть в зрелом возрасте – вот наша психология». На протяжении пьесы звучит слово «избранные», вчерашние неимущие претендуют на обособленность в меру своей обеспеченности. Их тайну и выдает Суслов: «Я обыватель – и больше ничего-с! Вот мой план жизни. Мне нравится быть обывателем… Я буду жить, как хочу!». У Бабочкина это получалось с остервенением неподражаемым, решено и сделано в границах мастерского изображения истерики. То было умение воспроизвести на театральных подмостках переживание столь же материализованное, как скульптура или стихотворение. Овеществленность в изображении чувств меня притягивала с детства, когда я рассматривал предметы, сделанные прадедом, машинистом-механиком. В подарок своим детям он создал чудеса токарного искусства – материализованное выражение отеческой любви. Кто видел у нас полочку его работы, говорил: «Хотел[а] бы я иметь такую полочку». То была полочка как таковая, феномен полки, как пушкинские строки есть стихи. Созданная машинистом кофемолка вызывала восклицание: «Где вы такую достали?!» Достать такую полочку нельзя, нам досталась кофемолка assoluta. Столетней давности кинопленка сохранила умирание, созданное в шекспировской «королевской хронике» Бирбомом Три. «Я не видел ещё, чтобы кто-нибудь так умирал на сцене», – Золя о Сальвини. Итальянского трагика видел Кугель: «Сальвини всегда брал простейшее – в этом была главная сила театрального впечатления. Сальвини дает простодушного детски-доверчивого мавра, которого подавляет венецианская культура и который в своей примитивной чистоте и простоте не в силах прозреть гнусные замыслы и сложную дипломатию Яго». Критик-театрал, видевший многих знаменитостей, перечисляет выражения простоты, передаваемой Сальвини «необычайным, как оркестр, голосом» и внешними исключительными данными: «ревнивец», «страдание злополучного, всеми оставленного отца», «страдающий от сознания своей без вины виноватости», «лесной житель, ясный голос природы» и т. п.
Бабочкин, воплощая Суслова, положил краску, которой у Горького нет. Актер сделал это умело, обозначив двумя-тремя тактами ровесника пьесы, кафешантанного гимна бесстыдства «Матчиш» (от – match, спаривание).
«Матчиш», чудесный танец,я танцевала с одним нахаломпод одеялом.Актер не пел, он агрессивно отплясывал то, что Суслов высказывал: «Человек прежде всего – зоологический тип. Вы это знаете! И как вы ни кривляйтесь, вам не скрыть того, что вы хотите пить, есть… и иметь женщину. Вот и всё истинное ваше!». Актером была решена сверхзадача и четко проведена логика действия – обнажение желаний, манифест обывательщины: «вознаградить себя с избытком». Подсебейная жизненная установка была выражена теми же средствами, какими некогда был передан революционный энтузиазм. Актер смог сыграть революцию, сыграл и отречение от неё.
«Алиса Коонен поднимала кверху руки в молитвенно-пластическом экстазе и читала текст нараспев, с неестественными модуляцииями в голосе, воскрешая стиль ложно-классических трагедий».
Б. Алперс (1936).В год моего рождения о легендарной актрисе высказался авторитетный историк театра. Спустя тридцать лет попал я на концерт Алисы Коонен в том же зале ВТО, услышал модуляции и увидел жесты, «словно птица Гамаюн, залетевшая в социалистическую эпоху из другого времени», – одно из обманутых ожиданий.
Обмануты мои ожидания оказались, потому что навеянные околотеатральными сплетнями сделались несоразмерно большими. Алиса Коонен составила славу Камерного театра за всё время его существования между двумя Мировыми войнами. Она сумела поразить зрителей и обезоружить критиков исполнением роли женщины-комиссара в сверхсовременном спектакле по «Оптимистической трагедии» Вишневского, сыграла и Эмму Бовари, и Адриану Лекуврер – всё это стало легендой, в том числе легендой о гибели театра под гнетом власти. А я помню, как Генька Гладков мне говорил о Камерном, который находился недалеко от нас, через площадь. Генька говорил: «Хороший театр, почти всегда пустой. Пускали даже без билета: пожалуйста, заходи!» Генька и заходил, а вообще в Камерный не ходили. Не один Камерный оказался в кризисе, то было время, когда интерес к театрам упал. Интерес возродился вместе со злободневностью семидесятых. Тогда и книги стали лучшим подарком, а до этого было как? Хочешь обидеть – дари книгу. В Камерном театре последним заметным спектаклем был «Визит инспектора» по пьесе Пристли, всё та же тема всеобщей неприемлемости правды. Пристли написал пьесу сразу после войны, и в Англии пьесу ставить не хотели: саморазоблачение оказалось не в духе послевоенного времени – пора мирной передышки и возродившихся надежд. Пристли прислал пьесу в Москву, пьесу быстро перевели и поставили, отец был на премьере с Архиепископом Кентерберийским, визит Архиепископа несколько повысил кредит театра, но дальше закрутилась театральная интрига. Камерный «прикрыли» – так говорили об оргмерах, принятых во исполнение официальных постановлений, и директивное постановление присудило к бессмертию своей смертью умиравший театр. В прессе, время от времени оживляя легенды, с подтекстом ставили вопрос: «Когда же взмахнет крылами трагическая муза Коонен?»


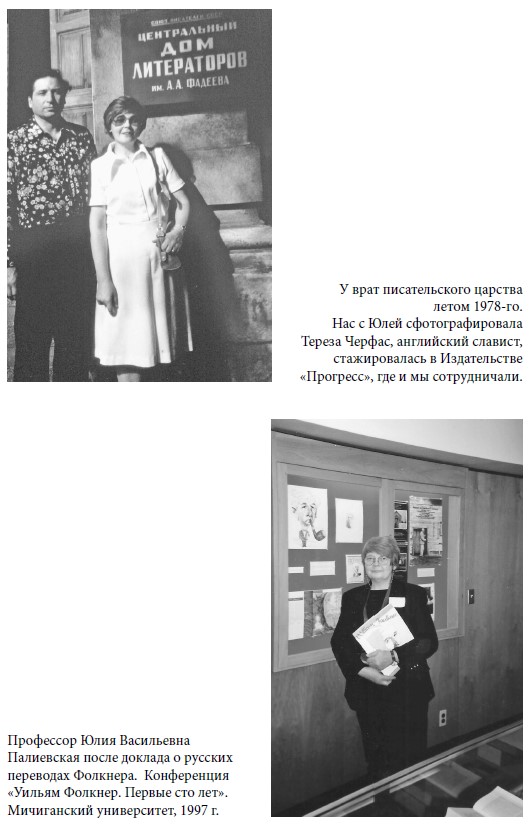









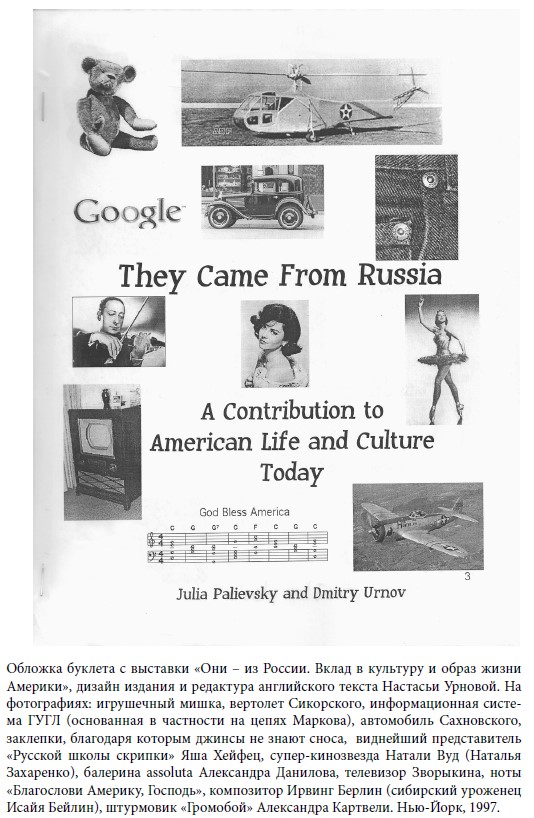



На концерте в Доме актера Алиса Коонен читала стихи Александра Блока. Слушая Коонен, я вспоминал инцидент из прошлого советской литературы. Вспоминал, потому что драма разыгралась недалеко от Дома Актера, четыре остановки по Бульварному кольцу – Дом Печати. Там читал те же стихи сам Александр Блок и, по свидетельству Чуковского, о стихах и о нем было сказано: «Эти стихи – мертвечина и написал их мертвец». Свидетельство Чуковского в свою очередь обросло легендой. Марина Цветаева, пересказывая и даже цитируя Чуковского, по обыкновению преувеличивала, подгоняя реальность под свою любимую мысль, то есть следуя своей манере говорить не о том, что было, а что ей виделось. Так самоубийство Стаховича стало в её устах вызовом советской власти, оскорбительные слова будто бы были брошены поэту прямо в лицо. Согласно Чуковскому, они с Блоком сидели за сценой, слышали бестактные слова и сами отыскали «витию», но вития от своих слов не отрекался, а сам Блок, по Чуковскому, признал: «Это правда». Как бы там ни было, я всё-таки не представлял себе, как можно было такое сказать. На концерте Коонен понял: отжило! В год моего рождения искушенному зрителю казалось, что на сцене Камерного театра «актеры создавали царство фантастических образов, мир несуществующих людей, живущих по каким-то особым законам эмоциональной ритмики»[8]. Тридцать лет спустя в моих глазах фантастические образы выглядели омирщенными: осталась техника, остался навык, пропала энергия, давным-давно испарился дух того времени надуманных незнакомок и нарочито стилизованных баядерок. Из сострадания к бескрылой музе я в антракте ушел.
«Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?»
«Записки сумасшедшего».В конце 1960-х годов, одновременно с «Дачниками» в Малом, а потом и во МХАТе, в Москве шло шестнадцать (!) «Записок сумасшедшего». «Устроить бы, – говорил Петька Фоменко, – фестиваль “Записок сумасшедшего”». Шестнадцать «сумасшедших» я не видел, но те, кого видел, не шли в сравнение с Георгием Бурковым – моноспектакль. Исполнение роли Суслова Бабочкиным и решение роли Поприщина Бурковым – воплощение ещё живой традиции актерства. Бурков сотворил человека, постепенно теряющего рассудок: по мере того как его Поприщин сходил с ума, он становился всё более рассудочным, нарочито методичным. Всё аккуратнее, входя в свою комнату, снимал и оставлял башмаки у порога, а мы, затаив дыханье, ждали, как он войдет в очередной раз.
После «Записок сумасшедшего» собрались у Сашки Великанова, мы уже начитались В. В. Розанова, и спорили о том, был или не был Гоголь гигантским принижением России. А в актерстве, судя по тому, что вижу и слышу сейчас, традиционные критерии не соблюдаются совсем. Таков результат постепенного снижения требовательности, уже моих сверстников не учили петь и фехтовать, о французском и подавно забыли. Мою мать пригласил на спектакль мой приятель, знаменитый актер. У матери была самосокрушительная склонность напрямик выкладывать правду, в молодости она посещала студию Алексея Дикого, знала, что тогда были за требования, и высказала моему приятелю всё: данные есть, отсутствует выучка – ни жест, ни голос не обработаны. Больше её мои друзья не приглашали. Составляя литературные передачи для телевидения, я как ведущий оказался однажды в рубке вместе с известным актером моего поколения. Ко мне претензий не было, не актер, не роль исполняю, а просто рассказываю. Но актеру режиссер говорит: «Дайте голос!» А тот не может выполнить режиссерского требования, нет у него голоса. На сцене он брал ужимками, в сущности кривлянием, и это считалось мастерством. У Фоменко я спросил, почему бы ему не поставить старинную мелодраму «Кин, или Гений и беспутство», а «Петька» ответил: «Кто будет страсти рвать? Естественности до хрена, ходульности не хватает!».
Не вина моих сверстников-актёров, что их, как и нас, литераторов, не учили ремеслу. У гуманитариев, не вырабатывали исследовательских навыков, писатели моего поколения не умели писать, хотя им было что сказать. Наш знаменитейший прозаик, мой сверстник, в ответ на критику прошипел: «Литературные приемы ты знаешь!». Что сказать? Приемы я изучал согласно профессии литературоведа, а он, писатель, приемами не владел. Разве не зачитывались его творениями читатели? Читателей отучили различать писательский профессионализм и посильное правдоговорение.
«Всегда старики были склонны видеть конец мира и говорили, что нравственность упала до nec plus ultra, что искусство измельчало, износилось, что люди ослабели и проч. и проч.».
Чехов.Чехов иронически высказался после того, как выслушал рассуждения Толстого об упадке искусства, выслушал и поморщился – не согласился. Однако на пять лет раньше слышали, как в расцвете таланта и в ореоле славы, сам он, тридцатилетний писатель, рассуждал: «Для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное… Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и вас зовут туда же, и вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая приходила и тревожила воображение».
Стало быть, понимающие старики и понимающие молодые говорят об одном и том же, говорят в один голос, значит, не выдумано: есть времена подъемов и падений, и при том, что всегда всё было и ничто не ново, различными бывают пропорции в соотношении того и другого.
Звуки небесные
«Ведь он же гений, как ты да я».
Пушкинский Моцарт.Борис Николаевич был занят в театре, Васька находился на съемках, Казимировна взяла меня с собой в Консерваторию на концерт Иегуди Менухина, и оказался я в первом ряду. Тут же сидел лауреат Нобелевской премии, академик-химфизик Семенов Николай Николаевич. «Это из тех шпингалетов, – с усмешкой, взглянув на меня, ученый стал читать мои мысли, – которые думают, что старые хрычи, вроде меня, заедают их век».
К выдающемуся химфизику персонально претензий у меня не было, но кого заедают и кого продвигают в основанном им Институте, я знал от его сотрудника, моего друга Жоры Алексаняна, который станет отцом Василия – жертвы интриг вокруг дела Ходорковского. Мы застали основоположников: Семенов – химфизика, Зелинский – противогаз, Юрьев – вертолет, Сукачев – лес, Капица – магнитные поля, Энгельгардт – белки, создали они научную область, с которой отождествляются их имена, уйти для них означало – из жизни. «Терпи», – сказала мне Алина, дочь Энгельгардта, которой я пожаловался, что нам, говоря словами Гамлета, хода нет.
В том же ряду за Семеновым сидел партийный работник Ярустовский, отвечавший за музыку. Оба по-свойски приветствовали Ливанову. Тут шорох не шорох, а легкое дуновение, словно Зефир пролетел, почувствовалось в зале. На авансцене возник пепельный с желтоватым оттенком блондин. Отзвучали аплодисменты. Вскинулась белая голова, по мановению смычка мы все будто взлетели вместе со звуками скрипки.
Ярустовский задремал – так я подумал, не зная, что у меломанов принято слушать музыку, закрывая глаза. Моя жена, безжалостный домашний редактор, эту фразу вычеркнула и на полях написала: «Каждый дурак знает, что, слушая хорошую музыку, многие закрывают глаза». Но я же ни хорошей, ни плохой музыки почти не слушал! В Магнитогорске родители затащили меня на концерт Генриха Нейгауза, игра музыканта была для меня томительной задержкой перед обедом в театральной столовой, после концерта за одним столом мы с ним хлебали пустые щи, и я был поражен, как пианист, не разжевывая, заглатывал большие куски вареной капусты. В Московской Консерватории слышал Аппассионату в исполнении Гольденвейзера, не стал бы слушать, но старикашка, с трудом добравшийся до рояля, играл Толстому. Слышал Святослава Рихтера – «барабанил». Иногда барабанил и Рахманинов. Слово я знал. Мать, усаживая меня за пианино, говорила, едва я касался клавишей: «Не барабань!». И вот по радио слышу, кто-то барабанит. Диктор объявляет: «Вы слышали игру Рахманинова».
Для Ярустовского музыка было службой, терзали его требовательные телефонные звонки и беспокойные разговоры с музыкантами. «Замучила Шпиллерша», – успел сказать ответственный работник, имея в виду оперную грандаму, Наталию Шпиллер, певицу – некогда, однако всё неумолкавшую. Но зазвучала скрипка и, казалось, погрузился партократ в сладкую полудрему, убаюканный небесными звуками. «Волшебная флейта», – произнес мой внутренний голос: не тот инструмент, но то волшебство.
Музыка, что и говорить, не была моим увлечением. Родители пробовали отдать меня в музыкальную школу, однако на прослушивании, чтобы заглушить мои потуги исполнить мою любимую летчицкую песню «В далекий край товарищ улетает…», мне стали хором подпевать преподаватели, а потом сказали родителям: «Он не годится».
Эту историю я рассказывал в Америке студентам и знакомым. В отказе лишенному музыкальных способностей поступить в музыкальную школу они видели лишнее доказательство отсутствия свободы творчества в нашей стране. У студентов «Не годится» вызывало единодушно-возмущенное «Что?!». По их мнению, годились поголовно все и каждый, было бы желание считать себя музыкантом. Знакомые восклицали в ужасе: «Как же можно сказать в глаза человеку, что он не годится?» В то время в газетах обсуждалась претензия одной матери, которая подала в суд на жюри, отказавшего её глухонемой дочери в праве выступать на конкурсе ораторского искусства.
Кто спорит с тем, что обделенным природой следует помочь? Однако американский опыт, насколько я с ним познакомился, подтверждает парадокс: помогая обделенным, затирают одаренных, на выборах ищут поддержки у недавних пришельцев, чающих тех же прав и преимуществ, готовых отдать свои голоса за щедрые обещания. Мне жаловаться нечего – сам из той категории, так получилось: нас женой несла и вынесла на берег волна разрушения. Публично должен я молчать, и – молчу, но про себя, в своем масштабе пользуюсь аргументом Толстого. Его упрекали, что он катается на лошади, когда у крестьян бескормица. Толстой отвечал, что «катается» на плохой лошади. А я всего лишь приютился.