Все застыли на валу, жадно вглядываясь в даль, хотя пока различить там что-либо было невозможно. Там как будто двигался огромный яркий персидский ковёр. Он увеличивался и увеличивался в размерах… И вдруг воздух словно раскололся: над войском взревели десятки труб. И люди на поле как будто откликнулись на их зов, всей массой двинулись навстречу этому ковру. Растекаясь в стороны и обгоняя друг друга, по глубокому талому снегу припустились мужики и парни, за ними мальчишки, бабы и даже старики…
Над войском снова взревели трубы, и так, что Дружинка с Ивашкой обмерли от восхищения.
А бегущие по полю люди на какое-то мгновение остановились… Затем точно кто-то подстегнул их, все прытко устремились вперёд.
Оттуда же, от войска, вразнобой покатились громовые удары медных набатов. Их везли на помостах четвёрки лошадей, скованные между собой цепями. На помостах же прохаживались барабанщики и по-молодецки разминались: по очереди с силой били и били в набаты колотушками, производя неимоверный гул.
Ничего подобного Дружинка и Ивашка не могли себе даже представить и от удивления разинули рты…
Наконец полки подошли ближе, и с вала их стало хорошо видно.
Впереди войска на серых в яблоках лошадях ехали пятьдесят стрельцов в красных кафтанах и шапках, вооружённые саблями и мушкетами. За ними попарно ехали на каурых лошадях десять трубачей в снежно-белых кафтанах и высоких белых шапках. Далее шла сотня одетых в тёмно-зелёные кафтаны и шапки боярских детей на одномастных пегих лошадях. Следом ехали два рослых дворянина в белых адамастовых кафтанах, в шапках из рысьего меха и белых сапогах, с золотыми цепями на груди. Один из них держал в руках саадак, а другой – тяжёлый серебряный шестопёр, украшенный драгоценными камнями.
Дружинка перевёл взгляд дальше и, толкнув в бок Ивашку, вскрикнул: «Глянь, глянь!»
Там, на белых лошадях, рядом, стремя в стремя, ехали два всадника. Один из них, справа, был таким громадным, что, казалось, конь под ним едва тянет свою ношу.
«Это же Скопин!» – от восторга зашлось сердечко у Дружинки, и он впился взглядом в большого воеводу…
Князь Михайло ехал на аргамаке, покрытом алой бархатной попоной и с пышным букетом страусовых перьев в золотой трубке на его голове. Шею аргамака украшала грива из пряденого золота, а вниз кокетливо ниспадал огромный науз [10 - Науз – предмет конского убранства: шнур с кистями или подвесками, обычно богато украшенный, привешиваемый к шее лошади.]из красного шёлка. На ногах, выше изящных коленных чашечек, красовались золотые накольники, а у самых копыт – остроги из червлёного серебра. По обеим сторонам бархатного ухвата блестели большие золотые кованцы с лаловыми камнями. А ниже, вдоль повода узды, свисали кольцами золотые цепи и мелодично позвякивали в такт шагу аргамака[11 - Грива – сетка, которой украшается грива аргамака. Науз – предмет конского убранства: шнур с кистями или подвесками, обычно богато украшенный, привешиваемый к шее лошади. Накольники – часть воинского доспеха: несколько соединённых вместе металлических полос, защищавших колени. Острога – шпора. Ухват – лента для украшения, имитирующая повод. Кованцы – украшения из кованого металла. Лал – благородная шпинель (драгоценный камень, по цвету близкий к рубину, но уступающий ему по твёрдости и блеску).].
Князь сидел на коротких стременах, в высоком седле, обтянутом бархатом с золотой оправой. На голове у него тускло отливала булатная ерихонка [12 - Ерихонка – вид металлического конически-выпуклого шлема с наушниками и назатыльником.]с узорной насечкой. Поверх кафтана, под длинным плащом из золотой парчи с горностаевой опушкой, у него блестел стальной панцирь, пузырились наручи и бутурлыки[13 - Бутурлык – поножи, доспех, защищающий ногу всадника. Наручи – защитный доспех для рук.]. Сбоку у него висел короткий меч, а в руке он держал копьё с прекрасным нарукавником.
Рядом с ним, по левую сторону, также на роскошно убранном коне, ехал молодой знатный иноземец со светлыми рыжими усами. Однако и одеждой, и ростом, и осанкой он уступал большому воеводе.
За ними ехал воевода понизового войска Фёдор Шереметев, а следом ехали другие воеводы.
Многотысячное войско конных и пеших растянулось далеко по дороге, и последнюю версту до Земляного вала оно двигалось в сплошном море людей.
Ещё раз взревели трубы так, что бросили всех в дрожь, затем коротко пропели и замолчали.
И в толпе как будто очнулись от оцепенения, истошно закричали:
– Слава Скопину! Да сохранит тебя Господь от злых напастей!..
– Солнце ты наше, государь земли Русской! Дождались светлого дня!
– Люди добрые, поклонимся всей землёй Московской освободителю и славному воеводе боярину Скопину! В ножки ему, в ножки!..
Толпа стала падать на колени в талый снег. И по обеим сторонам дороги словно откатились две волны и образовался проход, посреди которого медленно двигались полки. Всё вокруг смешалось. Стояли только стрельцы почётного караула.
Кашин, не ожидавший такого, растерялся.
«Ох, не миновать гнева государя!» – ударило у него под сердце оттого, что Шуйский, как всегда, вспылит и обвинит его за эти непорядки: дескать, допустил, позволил, чтобы московские чёрные люди безумствовали, падали на колени перед племянником, как перед царём…
И он с надеждой посмотрел на митрополита, взглядом взывая о поддержке: «Отче, помогай, ради Христа!»
– Не печалься, Михаил Фёдорович! – ответил на его страдальческий взгляд Иларион. – Бог даст, всё уладится!
По его сигналу архидьякон взмахнул рукой, певчие взяли высокую ноту и смолкли. Затем у Земляного вала пропели трубы, загоняя людскую стихию в ритуальные рамки встречи: туда, туда – и не высовываться!..
К Скопину и де ла Гарди, а это он ехал рядом с князем Михаилом, с двух сторон подошли по два рослых пристава и взяли под уздцы коней. Князь Михаил и де ла Гарди, а за ними Шереметев и остальные воеводы сошли с коней, подошли к митрополиту и боярам.
Кашин оправился от волнения и стал громко, на память, зачитывать указ Шуйского: «Царь и великий князь Василий Иванович, государь всея Руси, князь Владимирский и государь и царь многих иных государств и царств, повелел вас, больших воевод, боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, и генерала Якоба Пунтосовича де ла Гарди, и воеводу боярина Фёдора Ивановича Шереметева с товарищами встретить низким поклоном и хлебом-солью! За доблестные труды ваши ратные, кои свершили, освободив Москву от злого утеснения ворогом, хвала и слава вам от государя и великого князя Василия Ивановича и народа русского!»
Скопину и де ла Гарди поднесли хлеб-соль. Князь Михаил принял его и низким, ещё по-юношески ломким голосом поблагодарил встречавших за оказанную им честь. Затем вместе со своими воеводами он поклонился боярам, митрополиту и всему миру.
– Михаил Васильевич, тебя ждёт государь! И сейчас твой путь лежит в царские хоромы! – напомнил Кашин Скопину повеление Шуйского.
Воеводы снова сели на коней, и процессия двинулась в город: под крики, свист и вопли тысяч людей, облепивших крыши домов и заборы вдоль всего пути следования войска. У кремлевских ворот со стен громыхнули десятки пушек. Ошалевшая толпа взревела и, весёлая и хмельная, закачалась на узких улочках и площадях, обычно пустых и продуваемых в ненастье ветром…
Царский дворец встретил воевод также парадно рядами стрельцов, как и при въезде в город. Шуйский принял их со своей малой ближней думой в Грановитой палате. Когда же приём закончился и Шуйский отпустил всех, в палате у него остались Скопин, Кашин, Сукин и комнатный дьяк Никита.
Василий подошёл к князю Михаилу и пристально заглянул ему в глаза.
– Михайло, тебе Прокопий предложил венец?
– Об этом я уже писал тебе! – удивился Скопин тому, что царь с чего-то сразу перешёл к скандальному посланию Ляпунова.
– Почему же ты отпустил его воров?
– По делу их я наказал ослопами!..
Невысокий ростом, обрюзгший и невзрачный Василий Шуйский разительно отличался от молодого и статного племянника, что сразу бросалось в глаза, как только они оказывались вместе, рядышком, вот так же, как сейчас. И он почувствовал это, отошёл от него, недовольно буркнул: «Ладно, я верю тебе…»
– Государь, позволь я поведаю мысли тайные тебе! – шагнул следом за ним князь Михаил, волнуясь, что упустит момент откровенно поговорить о том, что наболело на душе.
Василий вяло повёл рукой: дескать, говори, то, что скажешь, уже известно.
– Государь, всей землёй решать бы надо, как нам дальше жить! – торопливо начал Скопин, чтобы успеть выложить главное. – Не бывать покоя в государстве, если не найдём согласия во всём!..
– Михайло, не раз об этом думал я! – перебил Василий его. – Поверь, готов и шапку снять, тому её отдать, кому её народ подарит! – скороговоркой выпалил он так, будто ему уже до чёртиков надоела шапка Мономаха и он хотел скорее с ней развязаться…
Мудрил Шуйский, как всегда мудрил и хитрил. Не раз уже проходил у него этот номер.
– Михайло, мне донесли, как чёрные людишки встречали тебя!
– Перед ним попадали все ниц, словно стал он их царём, – проворчал Кашин оправдывающимся голосом, что тут-де не его вина.
– И в мыслях не держу ссадить тебя! – вырвалось у Скопина, когда до него дошло то, что имеет в виду дядька.
Шуйский мельком прошёлся глазами по его лицу. Заметив на нём искренность, он странно задвигал руками, на глазах у него навернулись слёзы умиления.
– Михаил Фёдорович и ты, Василий, вы идите, идите, – кротким голосом велел он Кашину и Сукину. – Мы разберемся сами… Не так ли, Михайло? – растроганно спросил он племянника.
Князь Михаил промолчал, с сожалением подумав, что зря начал в спешке этот разговор.
Кашин же быстро покинул палату. По голосу царя он почувствовал, что тот размяк. Он знал, по себе знал, как недалеко было у Шуйского от слёз до гнева. За ним из палаты вышел и Сукин.



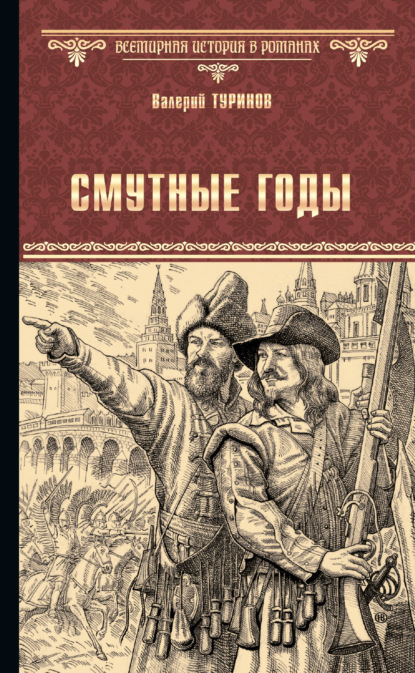




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0