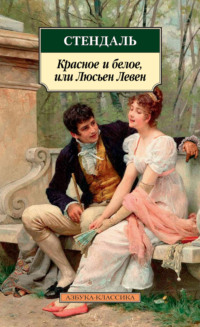
Красное и белое, или Люсьен Левен
Подполковник Филото говорил о себе, и говорил много; он долго рассказывал, как и за что получил он свои первые офицерские погоны в Египте, в первом сражении под стенами Александрии; рассказ был великолепен, дышал правдой и глубоко взволновал Люсьена. Но старый солдат, характер которого был надломлен пятнадцатью годами Реставрации, нисколько не возмутился при виде «парижского франта», сразу при вступлении в полк получившего чин корнета, – по мере того как Филото покидал героизм, в его голове зарождались всякие спекулятивные комбинации: он тут же начал соображать, какую пользу можно будет извлечь из молодого человека; он спросил Люсьена, депутат ли его отец.
Господин Филото отклонил приглашение на обед к госпоже Левен, переданное ему Люсьеном, но на третий день без церемоний принял в подарок пенковую трубку с великолепным массивным, чеканного серебра чубуком. Филото принял ее из рук Люсьена, как получают обратно долг, и даже не подумал поблагодарить.
«Это означает, – решил он, закрывая дверь за Люсьеном, – чтофрант, поступив в полк, будет часто проситься в отпуск, чтобы сорить деньгами в соседнем городке… И, – прибавил он, взвешивая в руке отделанную серебром трубку, – вы получите эти отпуска, господин Левен, но получите их только через мое посредство; я никому не уступлю такого клиента: ведь он, может быть, тратит по пятьсот франков в месяц; его отец, вероятно, бывший военный комиссар или поставщик, эти деньги когда-то были украдены у бедного солдата… Конфисковать!» – заключил он, улыбаясь. И, запрятав чубук среди своего белья, Филото запер на ключ ящик комода.
Глава третья
Став гусаром в 1794 году, восемнадцати лет от роду, Тонер Филото принимал участие во всех кампаниях революции. Первые шесть лет он сражался с энтузиазмом, распевая «Марсельезу». Но вот Бонапарт сделался консулом, и вскоре хитрый ум будущего подполковника заметил, что не следует так часто распевать «Марсельезу»; он оказался поэтому первым в полку лейтенантом, получившим крест. При Бурбонах он впервые пошел к причастию и стал офицером ордена Почетного легиона.
Теперь он приехал на три дня в Париж – напомнить о себе нескольким низшим по чину друзьям, между тем как 27-й уланский полк совершал переход из Нанта в Лотарингию. Будь Люсьен немного сообразительнее, он упомянул бы о влиянии, которым пользуется его отец в военном министерстве. Но он не замечал таких вещей; подобно пугливой лошади, он видел несуществующие опасности, но зато имел смелость кидаться им навстречу.
Узнав, что на следующий день господин Филото уезжает дилижансом, чтобы нагнать свой полк, Люсьен попросил у него разрешения поехать вместе с ним. Госпожа Левен была немного удивлена, увидев, как из коляски сына, которую она велела подать под свои окна, выгружают чемоданы и отправляют их к дилижансу.
Во время первой же остановки на обед подполковник сухо отчитал Люсьена, взявшего в руки газету.
– В Двадцать седьмом приказом по полку запрещено господам офицерам читать газеты в общественных местах. Исключение сделано лишь для органа военного министерства.
– К черту газету! – весело воскликнул Люсьен. – Сыграем в домино на вечерний пунш, если только лошадей не впрягли в дилижанс.
Как ни был молод Люсьен, у него, однако, хватило сообразительности проиграть шесть партий подряд, вследствие чего, садясь в экипаж, славный Филото был совершенно покорен. Он находил, что у этогофранта недурной характер, и принялся объяснять ему, как следует вести себя в полку, чтобы не производить впечатления желторотого птенца. Этот образ действий представлял собой почти полную противоположность изысканной вежливости, к которой привык Люсьен, ибо в глазах господ Филото, как в монашеской среде, изысканная вежливость считается признаком слабости: необходимо в первую очередь говорить о себе и о своих преимуществах, необходимо преувеличивать их. Сначала наш герой с грустью и с величайшим вниманием слушал его, затем Филото уснул глубоким сном, и Люсьен мог дать волю своим мечтам. В конечном итоге он был счастлив открывавшейся перед ним возможностью действовать и увидеть нечто новое.
На третий день к шести часам утра, не доезжая трех лье до Нанси, они нагнали двигавшийся походным порядком полк; остановив дилижанс и велев выгрузить вещи, они сошли на дорогу.
Люсьен, смотревший на все широко открытыми глазами, был поражен выражением угрюмой и топорной важности, которое приняло полное лицо подполковника в момент, когда его денщик, раскрыв саквояж, подал ему украшенный густыми эполетами мундир. Господин Филото распорядился дать лошадь Люсьену, и они присоединились к полку, за время их переодевания ушедшему вперед. Семь-восемь офицеров, придержав коней, образовали почетный арьергард подполковника; им в первую очередь и был представлен Люсьен; он нашел их слишком сдержанными. Трудно было найти менее обнадеживающие физиономии.
«Так вот они, люди, с которыми мне придется жить!» – подумал Люсьен, и сердце у него сжалось, как у ребенка. Привыкший к лицам, сияющим светской любезностью, с которыми он обменивался несколькими словами в парижских салонах, он был теперь готов поверить, что эти господа задались целью нагнать на него страху. Он говорил слишком много, но каждая его фраза вызывала у них возражение или неприязненную настороженность; он замолчал.
С час уже ехал Люсьен, не говоря ни слова, слева от ротмистра, командовавшего эскадроном, к которому он должен был быть причислен; он придал – по крайней мере, так ему казалось – холодное выражение своему лицу, но сердце его было сильно взволновано. Едва прекратил он неприятный диалог с офицерами, как уже позабыл об их существовании. Он глядел на улан, и его охватили радость и удивление. «Вот он, соратник Наполеона! Вот он, французский солдат!» С необычайным, страстным интересом он присматривался к мельчайшим подробностям. Затем, немного поостыв от восторгов первой минуты, призадумался над своим положением.
«Вот я имею наконец профессию, которую все считают наиболее благородной и наиболее интересной. Политехническая школа посадила бы меня на коня в качестве артиллериста, я же нахожусь теперь в рядах улан; единственная разница, – добавил он, улыбнувшись, – состоит в том, что вместо отличного знания дела я совершенно с ним не знаком». Ехавший рядом с ним капитан, заметив улыбку, скорее нежную, чем насмешливую, был ею задет. «…Неважно! – продолжал размышлять Люсьен. – Так ведь начали свою карьеру Дезе и Сен-Сир[10], герои, не запятнавшие себя герцогским титулом»[11].
Беседа, которую вели между собой уланы, отвлекла Люсьена от его мыслей. Это был самый обыкновенный разговор, касавшийся простейших нужд очень бедных людей: качества солдатского хлеба, стоимости вина и т. п. Но искренность тона, твердость характера и правдивость собеседников, сквозившие в каждом слове, сообщали новые силы душе Люсьена, точно воздух горной местности. Было в них что-то простое и чистое, резко отличавшееся от тепличной атмосферы, в которой он жил до сих пор. Почувствовать эту разницу и изменить свой взгляд на жизнь было делом одной минуты. Вместо вежливости, весьма приятной, но, по существу, очень осмотрительной и мелочно щепетильной, тон всех этих речей весело говорил: «Я плюю на все на свете и полагаюсь на самого себя».
«Вот самые прямодушные и самые искренние люди, – подумал Люсьен, – и, быть может, самые счастливые. Почему бы одному из их командиров не уподобиться им? Я искренен, как они, у меня нет задних мыслей, я буду стараться всеми мерами содействовать их благополучию; в сущности, я смеюсь над всем, кроме собственной чести. С этими же важными особами, именующими себя моими товарищами, но отталкивающими резкостью своего тона и самодовольством, у меня нет ничего общего, кроме эполет». Скосив глаза, он взглянул на ротмистра, ехавшего справа от него, и на лейтенанта, ехавшего справа от ротмистра. «Эти господа являются полным контрастом уланам; вся жизнь их – сплошная комедия; они страшатся всего, за исключением, пожалуй, смерти. Это люди вроде моего кузена Девельруа».
Люсьен снова стал прислушиваться к беседе улан и наслаждался; вскоре он перенесся в чистую область воображения; его свобода, его великодушие доставляли ему живейшее удовлетворение; он видел перед собой лишь великие задачи и привлекательные опасности. Исчезла необходимость интриговать и устраивать свою жизнь по примеру Девельруа. Незамысловатые речи солдат производили на него впечатление прекрасной музыки. Жизнь представлялась ему в розовом свете.
Вдруг вдоль свободного пространства посередине дороги, по обеим сторонам которой, небрежно сидя в седле, медленно ехали уланы, проскакал галопом подпрапорщик. Он что-то сказал вполголоса унтер-офицерам, и Люсьен увидел, как сразу приосанились на своих конях уланы. «Теперь у них совсем бравый вид», – подумал он. На его юном, наивном лице не могло не отразиться сильное волнение, охватившее его при этом: на нем было написано удовлетворение, благожелательство и, пожалуй, некоторое любопытство. Это было ошибкой; ему следовало оставаться бесстрастным или, еще лучше, придать своим чертам выражение,обратное тому, которого все ожидали. Ротмистр, по левую руку которого он ехал, тотчас сказал себе: «Этот изящный молодой человек сейчас задаст мне вопрос, и я ловким ответом поставлю его на место». Но Люсьен ни за что на свете не задал бы вопроса кому-либо из своих товарищей, проявивших так мало товарищеских чувств; он сам постарался угадать слово, которое внезапно заставило встрепенуться всех улан и небрежную посадку, вызванную продолжительным переходом, заменило бравой воинской выправкой.
Ротмистр все ждал вопроса; в конце концов он не вынес затянувшегося молчания.
– Это главный инспектор, которого мы ждали, генерал, граф N., пэр Франции, – произнес он сухо и надменно, с таким видом, точно не обращался непосредственно к Люсьену.
Люсьен равнодушно взглянул на ротмистра, как будто выведенный из задумчивости звуком его голоса: губы ротмистра сложились в ужасную гримасу, его лоб многозначительно наморщился, он старался не глядеть на корнета.
«Вот чучело! – подумал Люсьен. – По-видимому, это и есть тот военный тон, о котором мне столько говорил подполковник Филото. Конечно, ради того, чтобы понравиться этим господам, я не перейму этих резких и грубых манер; я останусь среди них чужаком. Быть может, придется разок скрестить с кем-нибудь свою шпагу, но, разумеется, я не откликнусь на сообщение, сделанное подобным тоном».
Ротмистр, по-видимому, ожидал от Люсьена возгласа восхищения: «Неужели это знаменитый граф N., неужели это тот генерал, чье имя с таким почетом упоминается в бюллетенях Великой армии?..» Но наш герой держался настороже; его лицо хранило выражение человека, вынужденного вдыхать дурной запах. После минуты тягостного молчания ротмистру волей-неволей пришлось прибавить, нахмурив еще больше брови:
– Это граф N., прославившийся знаменитой атакой под Аустерлицем. Полковник Малер де Сен-Мегрен, человек ловкий, всучил экю почтальонам последней станции: один из них прискакал галопом. Уланы не должны смыкать ряды: это было бы признаком того, что они предупреждены. Но посмотрите, какое хорошее впечатление произведет наш полк на инспектора: первое впечатление – крайне важная вещь… Вот люди, точно родившиеся на коне.
Люсьен ответил лишь кивком головы; он стыдился клячи, которую ему дали; он пришпорил ее; она метнулась в сторону и едва не упала. «Какой жалкий у меня вид!» – подумал он.
Десять минут спустя послышался стук колес сильно нагруженной кареты; это был граф N., ехавший посередине дороги, между двумя рядами улан; вскоре карета поравнялась с Люсьеном и ротмистром. Им не удалось разглядеть генерала – до такой степени огромная берлина была набита всякого рода пакетами.
– Ящики, ящики, ящики с провизией без конца, – недовольно заметил ротмистр. – Он разъезжает не иначе как с грудами окороков, жареных индеек, паштетов, с бесчисленными бутылками шампанского!
Наш герой был вынужден ответить. Пока ему приходится заниматься неприятной обязанностью учтиво отплатить ротмистру Анрие презрением за презрение, мы, с согласия читателей, последуем на минуту за генерал-лейтенантом, графом N., пэром Франции, на которого в этом году было возложено инспектирование 26-й дивизии.
В момент, когда его карета проезжала по подъемному мосту Нанси к месту стоянки 26-й дивизии, семь пушечных выстрелов оповестили население об этом крупном событии.
Эти семь выстрелов снова окрылили душу Люсьена.
У дверей инспектора поставили двух часовых, и генерал-лейтенант барон Теранс, начальник дивизии, попросил справиться у него, примет ли он его сейчас же или на другой день.
– Сейчас же, черт возьми! – ответил старый генерал. – Неужели он думает, что я с… на службу?
Граф N. до сих пор сохранял в некоторых мелочах привычки, приобретенные им в армии Самбры-и-Мааса, где в былое время началась его известность. Эти привычки ожили в нем теперь с особенной силой потому, что уже не раз за последние шесть-семь перегонов он узнавал позиции, которые некогда занимала эта армия, увенчанная ничем не омраченной славой.
Хотя это был человек, лишенный воображения и отнюдь не склонный к иллюзиям, он замечал, до чего живы в нем воспоминания 1794 года. «Какая разница между 1794 и 183* годом!.. Господи! Как мы тогда клялись в ненависти к королевской власти! И с каким жаром! Эти молодые унтер-офицеры, наблюдать за которыми мне так советовал N., в ту пору были мы сами… В то время сражения происходили ежедневно; военное дело было приятным, люди любили сражаться. Нынче же надо прислуживаться к какому-нибудь маршалу…»
Генерал граф N. был довольно красивый мужчина лет семидесяти пяти, стройный, худощавый, ничуть не сгорбленный, с отличной выправкой. У него была еще прекрасная фигура, а несколько тщательно расчесанных прядей не совсем поседевших русых волос скрашивали почти совершенно лысый череп. Черты лица свидетельствовали о непреклонном мужестве и огромной воле к повиновению, но были лишены печати мысли. Эта голова уже меньше нравилась со второго раза, а с третьего казалась почти совсем заурядной; на этой физиономии лежало как бы облако фальши: видно было, что Империя с ее низкопоклонством оставила на ней свои следы.
Счастливы герои, умершие до 1804 года!
Эти фигуры ветеранов армии Самбры-и-Мааса приобрели гибкость в тюильрийских приемных и на церемониях в соборе Нотр-Дам. Граф N. был свидетелем изгнания генерала Дельмаса[12], которое явилось следствием знаменитого диалога:
– Прекрасная церемония, Дельмас! Поистине великолепно! – сказал император, возвращаясь из Нотр-Дам.
– Да, генерал, не хватает лишь двух миллионов человек, пожертвовавших жизнью, чтобы уничтожить то, что вы восстанавливаете.
На другой день Дельмас был выслан с запрещением приближаться к Парижу на расстояние сорока лье.
В ту минуту, когда лакей доложил о приходе барона Теранса, генерал N., облачившийся в парадный мундир, прогуливался по гостиной; ему еще слышалась пушечная пальба, снявшая блокаду с Валансьена. Он быстро отогнал от себя воспоминания, способные привести к неосторожным поступкам, и мы,чтобы услужить читателю, как выкрикивают газетчики, продающие речь короля на открытии парламента, передадим некоторые места из диалога двух старых генералов. Они были почти не знакомы друг с другом.
Барон Теранс вошел, неловко кланяясь. Он был без малого шести футов росту и имел осанку крестьянина из Франш-Конте. Кроме того, в сражении при Ганау[13], где Наполеону пришлось прорвать ряды своих верных союзников-баварцев, чтобы вернуться во Францию, полковник Теранс, прикрывавший со своим батальоном знаменитую батарею генерала Друо, получил удар саблей, рассекший ему обе щеки и отхвативший кончик носа. Раны кое-как были залечены, но оставили очень заметные следы, и огромный рубец на лице, изборожденном морщинами вечного недовольства, придавал генералу весьма воинственную внешность. На войне он отличался изумительной отвагой, но с воцарением Наполеона его уверенности в себе пришел конец. В Нанси он боялся всего, особенно же газет; потому-то он часто угрожал расстрелять адвокатов. Его неотступным кошмаром был страх подвергнуться публичному осмеянию. Плоская шутка в газете, насчитывавшей сто читателей, положительно выводила из себя этого столь бравого военного. Было у него и другое огорчение: никто в Нанси не обращал внимания на его эполеты. Когда-то, во время майского восстания 183* года, он круто обошелся с городской молодежью и был уверен, что его ненавидят.
Этот некогда столь счастливый человек представил своего адъютанта, который тотчас же удалился. Он разложил на столе план расположения воинских частей и госпиталей дивизии. С добрый час ушло на обсуждение всяких военных тонкостей. Генерал осведомился у барона о моральном состоянии солдат; отсюда оставался только шаг до вопроса об общественном настроении. Нужно, однако, сознаться, что ответы достойного начальника 26-й дивизии могли бы показаться слишком длинными, если бы мы воспроизвели все красоты их военного стиля; мы ограничимся здесь лишь выводами, которые сделал граф и пэр Франции из ворчливых речей провинциального генерала.
«Этот человек – воплощение чести, – подумал граф. – Он не боится смерти; он даже скорбит от всего сердца об отсутствии опасности; но он все же деморализован, и если бы ему предстояло подавить восстание, он сошел бы с ума от страха перед завтрашними газетами».
– Мне ежедневно причиняют всякого рода неприятности, – повторял барон.
– Не говорите об этом слишком громко, дорогой генерал. Двадцать генералов старше вас домогаются вашего поста, а маршал желает, чтобы все были довольны. Откровенно, по-товарищески, передам вам одно его словечко, быть может немного резкое. Неделю назад, когда я был перед отъездом у министра, он мне сказал:«Только глупец не сумеет свить себе гнездышко в провинции».
– Хотел бы я видеть господина маршала, – нетерпеливо возразил барон, – между богатым, хорошо сплоченным дворянством, открыто нас презирающим, непрерывно издевающимся над нами, и буржуазией, идущей на поводу у иезуитов, у этих тончайших пройдох, под влиянием которых здесь находятся все мало-мальски богатые женщины. С другой стороны, вся городская молодежь, если они не дворяне и не ханжи, – ярые республиканцы. Если мои глаза случайно задерживаются на одном из них, он показывает мне грушу или каким-нибудь иным способом выказывает свое бунтарское настроение. Даже школьники издеваются надо мной. Если молодые люди встречают меня в двухстах шагах от моих часовых, они подымают оглушительный свист, а затем в анонимном письме предлагают дать мне удовлетворение, осыпая площадной бранью в случае, если я не приму вызова; к анонимному письму прилагается клочок бумаги с именем и адресом его автора. Видано ли что-либо подобное в Париже? Если же я молча проглатываю оскорбление, на другой день все говорят об этом или намекают на это. Не далее как позавчера господин Людвиг Роллер, очень храбрый отставной офицер, слуга которого был убит случайно во время событий третьего апреля, предложил мне драться с ним на пистолетах за пределами расположения дивизии. Так вот вчера эта дерзость была предметом пересудов всего города.
– Такое письмо передают королевскому прокурору. Разве здешний королевский прокурор недостаточно энергичен?
– Он зол, как дьявол; он родственник министра и уверен в том, что выдвинется при первом политическом процессе. Я имел глупость через несколько дней после мятежа показать ему только что полученное мною анонимное письмо с угрозами; черт возьми, это было в первый раз в моей жизни! «Что мне сделать с этой бумажкой? – беспечно спросил он. – Если бы меня оскорбили таким образом, я у вас, генерал, просил бы защиты или же сам расправился бы с оскорбителем». Порою меня подмывает дать саблей по носу этим дерзким штафиркам.
– Тогда прощай должность!
– Ах, если бы я мог обстрелять их картечью! – глубоко вздохнул, подняв глаза к небу, старый бравый генерал.
– В добрый час! – ответил пэр Франции. – Таково всегда было мое мнение: спокойствием своего царствования Бонапарт был обязан пушкам святого Рока[14]. А разве господин Флерон, ваш префект, не доносит о настроении умов министру внутренних дел?
– Не в этом дело; он марает бумагу с утра до вечера, но это юнец, двадцативосьмилетний ветрогон, разыгрывающий нередко передо мною политика; его снедает тщеславие, а труслив он, как женщина. Напрасно говорю я ему: «Отложим соперничество префекта и генерала до более счастливых времен; и вас и меня целый день обливают помоями все решительно. Отдал ли нам, например, господин епископ наши визиты? Дворянство никогда не посещает ваших балов и не приглашает вас на свои. Если, согласно полученным нами инструкциям, мы в генеральном совете пользуемся каким-нибудь деловым поводом, чтобы поклониться дворянину, он отвечает нам на поклон только в первый раз, а во второй отворачивается от нас. Республиканская молодежь освистывает нас, глядя нам прямо в лицо». Все это очевидно. А префект отрицает это; он отвечает мне, краснея от гнева: «Говорите о себе; меня никогда не освистывали». А между тем не проходит недели, чтобы его не освистали в двух шагах от него, если он с наступлением сумерек осмелится показаться на улице.
– Но вполне ли вы уверены в этом, дорогой генерал? Министр внутренних дел показал мне десять писем господина Флерона, судя по которым он не сегодня завтра совершенно помирится с партией легитимистов. Господин Г., префект города N., у которого я позавчера обедал, отлично ладит с людьми этого толка – я это видел собственными глазами.
– Еще бы, черт возьми! Это ловкий малый, превосходный префект, приятель всех ловких воров, сам ежегодно ворующий по двадцать-тридцать тысяч франков, да так, что его не поймаешь; именно за это его и уважают в департаменте. Но вы можете заподозрить меня в том, что я клевещу на здешнего префекта; разрешите пригласить сюда капитана Б., – вы, кажется, знаете его? Он, должно быть, находится в приемной.
– Если не ошибаюсь, это наблюдатель, присланный в Сто седьмой полк, чтобы представить отчет о моральном состоянии гарнизона!
– Совершенно верно; всего три месяца как он здесь. Чтобы не разоблачить его перед однополчанами, я никогда не принимаю его днем.
Явился капитан Б. Увидев его на пороге, барон Теранс счел необходимым удалиться в другую комнату; капитан на примере двадцати отдельных случаев подтвердил жалобы бедного генерала.
– В этом проклятом городе молодежь настроена республикански, а дворянство тесно сплочено и богобоязненно. Господин Готье, редактор либеральной газеты и вожак республиканцев, – человек решительный и ловкий. Господин Дю Пуарье, возглавляющий дворянскую партию, – продувная бестия, каких мало, и необыкновенно активен. Словом, все решительно смеются над префектом и над генералом: оба они настоящие отщепенцы, с ними никто не считается. Епископ периодически объявляет своей пастве, что через три месяца мы падем. Я в восторге, граф, что могу снять с себя ответственность за возлагаемую на меня обязанность. Хуже всего то, что, если откровенно напишешь об этом маршалу, он отвечает, что ты проявляешь недостаточно рвения. Для него это удобно в случае смены династии…
– Ни слова больше, сударь!
– Простите, генерал, я не то хотел сказать. Здесь иезуиты помыкают дворянством, как прислугой, да и вообще всеми нереспубликанцами.
– Сколько населения в Нанси? – спросил генерал, найдя разговор слишком откровенным.
– Восемнадцать тысяч жителей, не считая гарнизона.
– Сколько среди них республиканцев?
– Несомненных республиканцев тридцать шесть.
– Значит, два человека на тысячу. А сколько среди них настоящих людей?
– Один-единственный – землемер Готье, редактор газеты «Aurore».
– И вы не можете унять тридцать пять молокососов, а заправилу посадить за решетку?
– Прежде всего, генерал, среди всех дворян признается хорошим тоном быть богобоязненным; среди тех же, кто не богобоязнен, считается модным подражать республиканцам во всех их безрассудствах. Есть здесь кафе «Монтор», где встречается оппозиционная молодежь; это настоящий клуб девяносто третьего года. Если четыре или пять солдат проходят мимо этих господ, они вполголоса восклицают:«Да здравствует армия!» Если появляется унтер-офицер, его приветствуют, с ним заговаривают, ему предлагают угощение. Если же, напротив, показывается офицер, состоящий на службе у нынешнего правительства, как, например, я, нет такого косвенного оскорбления, которое не пришлось бы вынести. Еще в последнее воскресенье, когда я проходил мимо кафе «Монтор», все сразу повернулись ко мне спиной, как солдаты на параде; у меня было сильное желание пнуть их ногой пониже спины.
– Это был верный способ уйти в запас, как только пришла бы обратная почта из Парижа. Разве вы получаете недостаточно высокий оклад?
– Тысячефранковый билет в полгода. Мимо кафе «Монтор» я прошел по рассеянности, обычно я делаю крюк шагов в пятьсот, чтобы обойти это проклятое кафе. Подумать только, что офицер, раненный под Дрезденом и при Ватерлоо, вынужден избегать встречи со штафирками.