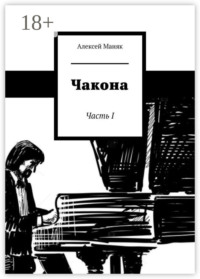
Чакона. Часть I
Выйдя из музыкальной школы, мы с Вовой взяли по два мороженых и, дойдя до остановки, уселись в автобус и поехали домой.
Поднявшись на четвёртый этаж своего дома, я открыл дверь квартиры, при входе в которую мне в нос ударил запах красок и масла, доносящийся из комнаты отца. В комнате сидела моя сестра Алиса, рисуя на холсте этюд для сдачи экзамена в художественной школе.
Алисе было семнадцать лет, она была маленького роста, с красивыми ярко выраженными чертами лица, привлекательной улыбкой и тёмными кудрявыми волосами. Характер моей сестры довольно сильно отличался от моего тем, что я не был так уверен во всём в жизни, как она. Возможно, поэтому она везде и во всём лидировала.
– Привет, где был? – спросила она. не отрываясь от картины.
– В музыкальной школе, слушал мастер-класс профессора из Ленинградской консерватории и вдобавок даже ещё незапланированно поиграл ему, – ответил я, усевшись на диван.
– В каком смысле незапланированно?
На этот вопрос я в подробностях рассказал весь инцидент, случившийся с Анной Михайловной, и заключительную концовку мастер-класса.
– Слушай, а может тебе пойти к нему попроситься в класс? – с серьёзным лицом предложила она.
– Ты чего, вообще?
– Я серьёзно: что здесь такого? Ну, не возьмёт тебя, так не возьмёт. Во всяком случае, попытка не пытка.
– Да ясное дело, что не возьмёт. С чего бы ему меня брать, когда я пять раз в ноктюрне остановился?
– Ну ничего, бывает.
– Бывает, но не пять раз.
– Можно было и больше, дело не в этом.
– А в чём?
– В том, что каждую возможность нужно использовать до конца. Кстати, это не мои слова, а нашего покойного отца, – уточнила она, помахав кисточкой.
– Это не тот случай, Алиса, – замотал я головой.
– Ты просто рано сдаёшься.
– Нет, просто моя судьба, видимо, быть прорабом.
– Это наша мама так говорит, а папа наоборот хотел, чтобы ты стал пианистом.
– Пока что желание мамы берёт верх.
– Ты видишь себя в жизни прорабом? – скривилась она, посмотрев на меня.
– Во всяком случае у меня больше шансов им стать, нежели пианистом.
– Тогда посмотри на себя в зеркало.
– И что? – спросил я, посмотрев в него с кислой рожей.
– Какой из тебя прораб, если у тебя лицо пианиста?
– Возможно только лицо, всё остальное говорит обо мне, как о хорошем строителе.
– Чушь! Ты просто не хочешь идти до конца.
– И что ты предлагаешь, пойти к нему и сказать: «Здравствуйте, Артём Иосифович, возьмите меня, пожалуйста, к себе в класс. Я знаю, что слабо играю, но я Вам обещаю, что научусь»?
– Неплохо, – вдумчиво покивала она головой – Как, ты сказал, его фамилия, Шварцман? – прищурилась она.
– Да.
– Так он, видимо, еврей? Почему бы тебе тогда не напомнить ему о том, что вы с ним духовные родственники? Это обычно помогает.
– Потому, что духовные родственники так, как я не играют.
– У тебя на это счет есть уважительная причина.
– Какая?
– У тебя был педагог славянских кровей.
– Ага.
– Что «ага»? Твоя Лебедь просто не хотела с тобой возиться, ты сам об этом прекрасно знаешь.
– Это не поможет.
– Ты не пробовал, поэтому не можешь так говорить. Притом есть весомая причина пойти и попроситься.
– Какая?
– Если он Свету к себе в класс не берёт, значит у него есть ещё одно свободное место в нагрузке.
– И оно, ты хочешь сказать, предназначено для меня?
– Никто не исключает того, что у Бога тоже есть юмор.
– Это действительно смешно, – улыбнулся я.
– Как знаешь, но учти: я бы на твоём месте так просто не сдалась, – заключила она, продолжив рисовать.
Я какое-то время сидел на диване и наблюдал за Алисой, прокручивая в голове её совет. Пытаясь даже представить эту ситуацию, всё моё сознание отвергало этот вариант. Наконец, выкинув всё из головы, я пошёл готовить себе обед и, дождавшись вечера, начал собираться на концерт Шварцмана. Одев белые штаны, голубую рубашку и повязав на шее красный галстук, я сел на стул в прихожей и стал зашнуровывать туфли.
– Что, всё-таки решил внедрить в жизнь мой план? – спросила Алиса, встав у двери комнаты с чашкой чая.
– С чего ты взяла?
– Ну не знаю, ты так вырядился, будто решил идти к нему на собеседование.
– Я так вырядился, потому что отец всегда говорил, что на спектаклях или концертах нужно выглядеть не хуже, чем сам артист или исполнитель на сцене.
– И всё-таки я бы ещё раз подумала над моим предложением.
– Это исключено, – отрезал я, – всё, я пошёл, скажи маме, я буду к восьми дома.
– Хорошо, – ответила она и я вышел из квартиры.
К филармонии я прибыл за полчаса до концерта и, встретившись с Вовой, мы стали с ним в длинную очередь, которая продвигалась ко входу в зал.
– Слушай, а ты Светку не видел, она же тоже должна быть здесь? – спросил меня Вова.
– Нет, не видел, – ответил я.
– А, вон она стоит разговаривает рядом со своим отцом и с нашим Лебедем, – кивнул Вова головой в сторону лестницы.
Отец у Светы был депутатом в управлении Колпино, которому Анна Михайловна всё время старалась угодить. Поэтому на всех школьных конкурсах Светочка всегда брала Гран-при или первое место.
Худощавая женщина невысокого роста надорвала наши билеты и пропустила нас внутрь. Усевшись на своё место, я начал осматривать новый зал филармонии, который был реконструирован два месяца назад. Когда весь зал наполнился людьми, прозвучал третий звонок и та же невысокая женщина закрыла входную дверь.
На сцену вышел ведущий концерта высокого роста и, подойдя к микрофону, громко произнёс:
– Добрый вечер, дорогие друзья! Зал филармонии приветствует вас на сегодняшнем концерте, который мы вместе с вами ждали целых два месяца. Для нас сегодня действительно большой праздник, потому что мы имеем возможность услышать музыканта высочайшего уровня, который черпал свое мастерство у всемирно известного музыканта и педагога Давида Гинцеля. Разрешите представить: лауреат всесоюзных и международных конкурсов, солист Ленинградской филармонии, народный артист Советского Союза, профессор Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Артём Иосифович Шварцман!
Эти слова подхватила волна аплодисментов и на сцену спокойной походкой вышел Артём Иосифович. Низко поклонившись публике, он сел за рояль, после чего ведущий продолжил:
– Иоганн Себастьян Бах – Чакона ре-минор.
В наступившей тишине Артём Иосифович медленно поднял левую руку и, утопив её в клавиатуру рояля, извлёк из него торжественный аккорд. Именно с этой минуты мой внутренний мир перевернулся. Всё, что я когда-либо слышал вживую, было и близко несравнимо с тем, что я услышал в исполнении Шварцмана. Каждый взятый им звук заставлял меня смотреть на этот мир иными глазами, а каждый сыгранный им пассаж открывал для меня дверь в новый неизведанный мир, в котором мне хотелось остаться навсегда. Это были чрезвычайно проникновенные мысли и ощущения. Теперь я отчётливо понимал значение слова гениальность. Это было то, о чём невозможно было рассказать, потрогать или передать. Всё, что было доступно, – только слушать и восхищаться. Этот профессор, который на первый взгляд казался довольно простым человеком, в эти минуты открылся моему сознанию как гений и творец, который мог своей игрой излечить тебя от всех болезненных мыслей и тревог. От его игры мои веки дрожали от слёз, а горло сдавливало чувство обиды от того, что я никогда не смогу так играть из-за своей бесталанности. Но всё же что-то жило во мне, что-то противостояло этому всему и мысленно продолжало верить в мечту стать таким же пианистом как Шварцман. После того, как он завершил пьесу драматическими аккордами, несущими в себе глубокий смысл, вся затихшая публика, не в силах совладать с назревшими эмоциями, громкими аплодисментами выплеснула свои чувства на исполнителя.
– Классно играет! – воскликнул Вова.
– Это гениально, – всё, что смог вымолвить я в ответ, продолжая неустанно хлопать Артёму Иосифовичу.
Концерт шел полтора часа, в течение которых он исполнял пьесы Вольфганга Амадея Моцарта, Доменико Скарлатти, Сергея Рахманинова, Эдварда Грига и других. Он окончил свой концерт, сыграв на пятый бис Венгерскую рапсодию №2 Ференца Листа, и безвозвратно удалился за кулисы.
В зале включился свет и все, медленно продвигаясь к выходу, делились друг с другом впечатлениями от незабываемого концерта.
При выходе из филармонии нас с Вовой встретило тёмно-серое небо, с которого усиленно начали падать крупные капли дождя. Ускорив шаг в сторону остановки, я погрузился в молчание.
– Чего это ты, Санёк, призадумался? – спросил Вова, втянув голову в плечи.
– Сказать нечего, я уничтожен этим концертом.
– Ты прав. Я тоже такого в жизни ещё не слышал. Даже не верится, что я буду учиться у него.
– Я тебе по-белому завидую.
– Да ладно, Сань, не переживай, улыбнется и тебе ещё жизнь, – ободряюще хлопнул он меня по плечу.
– Поздно уже переживать, техникум на горизонте.
– Главное, что мы будем в Ленинграде вместе.
В эту секунду с неба хлынул поток дождя и мы, добежав до остановки, начали расходиться по своим маршрутам.
– Всё, Саня, до завтра, созвонимся!
– Давай! – ударив с ним по рукам, я вскочил в автобус и, пробив талон, уселся на сиденье. Водитель закрыл дверь и шум дождя сменился громким шумом двигателя.
Вытянув из кармана носовой платок, я протёр лицо и начал смотреть в окно, по которому стекала вода.
– Что, убегаешь? – мысленно говорил я с собой. – А всё могло бы быть иначе.
– Как иначе?
– Ты всё хочешь знать наперёд и при этом не хочешь сделать ни единого шага.
– Какого шага? Послушать совета Алисы пойти и попроситься? Ну, ты и сам понимаешь, что он тебя не возьмёт с таким уровнем игры, зачем себя тешить этой надеждой?
– Допустим. А что будет, если он откажет? Ничего же не изменится: ты так же будешь ехать домой, но только уже зная, что ты всё сделал для того, чтобы учиться в его классе. Давай, решайся, у тебя осталось мало времени для размышлений.
– Но на улице ливень с грозой.
– Сейчас или никогда! – сказал я себе, в то время как в автобус входили следующие пассажиры.
В ту же минуту я вскочил с места и пулей вылетел из автобуса под льющий как из ведра дождь и в сопровождении грома во всю мощь рванул обратно в филармонию. По пути я молил Бога только об одном: чтобы Артём Иосифович всё ещё был там. Прибежав туда весь промокший насквозь, я ввалился внутрь с противным чавкающим звуком мокрых туфель и подскочил к дежурной.
– Здравствуйте, – обратился я к ней, переводя дыхание. – Скажите, а Шварцман ещё здесь?
– Мать честная святые угодники, а ты откуда выплыл? – перекрестилась дежурная, таращась на мои мокрые белые штаны и рубашку с болтающимся галстуком.
– Шварцман здесь? – повторил я.
– Кто? – никак не могла прийти в себя она.
– Шварцман, спрашиваю, здесь? – пытался я отвлечь её от своего растрёпанного вида.
– А кто это?
– Пианист, который играл сегодня концерт.
– Та вроде бы ещё здесь, ключи от его гримёрной никто не приносил.
– А можно я пройду к нему? Я забыл у него автограф взять.
– Кого?! – воскликнула она.
– Автограф.
– И ты вот это бежал по дождю за этим дурацким автографом?!
– Ну да.
– Господи, ненормальный, – обхватила она голову руками.
– Так можно или нет?
– Та иди уже быстрее!
– Пять минут! – побежал я к лестнице и остановился. – А где гримерная-то?
– По лестнице спускайся вниз и направо, четвёртая дверь – его.
Спустившись вниз. я почувствовал, как моё сердце бешено колотилось в груди, пытаясь выскочить наружу. Вся отрепетированная речь, которую я успел на ходу подготовить для Шварцмана, мгновенно куда-то улетучилась и я начал ощущать, как надо мной стали брать верх сомнения и страх. Через несколько шагов я замертво остановился, услышав за дверьми его голос:
– Уважаемый Сергей Дмитриевич, я очень хорошо понимаю Ваше желание помочь дочери, но я не беру к себе в класс девушек. Если хотите, я уже предложил Анне Михайловне, чтобы Света поступала в класс к Фролову – очень хорошему молодому специалисту.
– А почему Вы так категорически не хотите брать к себе в класс учениц?
– Потому что считаю парней более перспективными: им не нужно спешить выходить замуж, рожать и прочее. Я хочу вкладываться в то, что в будущем будет иметь результат, а не в воспоминания о прошлом. Вы знаете, кто такой настоящий ученик?
– Ну, я думаю, это человек, который как минимум хочет и старается чему-то научиться у своего учителя.
– Это тот человек, который всю жизнь будет верно служить своему делу и тем самым претворять в жизнь всё то, во что вкладывался его учитель. И из таких учеников женщины составляют всего один процент.
– Почему?
– Потому, что придёт такое время, когда женщина откажется от искусства и выберет семейное счастье. И это нормально, это их жизненное предназначение.
– Как-то всё замудрёно у Вас там в искусстве, – засмеялся Сергей Дмитриевич. – Давайте этот вопрос решим по-мужски. Я понимаю, у музыкантов положение не ахти, я к тому, что платят им немного. Представим, что я просто хочу от себя лично, так сказать, отблагодарить Вас за предоставленный моей дочери мастер-класс.
После этих слов все звуки за дверьми стихли и возникло долгое молчание.
– Сергей Дмитриевич, уберите, пожалуйста, деньги. Вы меня этим сейчас очень обижаете, – глухо произнёс Артём Иосифович.
– Так это вообще не деньги!
– Я очень рад, что у Вас всё хорошо в материальном плане, но за мастер-класс мне заплатило государство и той зарплаты, которую оно мне платит, для меня вполне достаточно.
– Так что, с Вами вообще никак невозможно договориться? – возмутился Третьяков.
– Я Вам уже всё сказал: я не беру больше девушек в свой класс.
– Ну… – буркнул Третьяков, поднявшись со стула. – Ну хотя бы может быть Вы там как-то с ней позанимаетесь, ну я имею в виду во время её обучения?
– Насчет этого без проблем. Но я Вас уверяю: Фролов – отличный специалист.
– Ладно…
– Простите, если я Вас этим обидел.
– Нет-нет, никаких обид, всё в порядке, – продолжил Третьяков. – Рад знакомству с Вами, надеюсь, что мы с Вами ещё увидимся.
– Взаимно, Сергей Дмитриевич, до свидания.
– Всего доброго!
– И Вам, – ответил Шварцман, после чего дверь открылась и из неё вышел, тяжело сопя, Третьяков и удалился по коридору.
Я стоял, притаившись в тёмном углу, и дожидался готовности подойти и постучаться в дверь Шварцмана.
– Видите, Сергей Дмитриевич, искусство деньгами и статусом не купишь, – прошептал я себе под нос. – У Вас не получилось, может мне судьба улыбнется. Господи, как же страшно, дай мне сил, – тихо взмолился я. – Всё, нужно идти! Кто не рискует, тот не живёт.
Подойдя к коричневой двери, я немного помедлил, а затем поднял руку и быстро постучал.
– Да! – послышался за дверьми голос. – Входите!
Медленно приоткрыв скрипучую дверь, я просунул в неё нос и краем глаза увидел, как Артём Иосифович стоит перед открытым чемоданом и смотрит в сторону двери.
– Ну, входите, кто там?!
Открыв шире дверь, я протиснулся вперёд, после чего Шварцман недоумённо взглянул на моё появление:
– Здравствуйте!
– Здравствуйте… – чуть слышно вымолвил я.
– Вы кто?
– Пианист.
– Кто? – скривился он.
– Пианист, – чуть громче повторил я.
– Не понял, – замотал он головой.
– Пианист.
– Я понял, а конкретней?
– Я – Саша, пианист…
– Какой Саша-пианист?
– Ну тот, который сегодня утром играл Вам на мастер-классе этого… Шопена.
– А-а, – чуть замедленно протянул он, – всё, я вспомнил. А почему ты такой мокрый?
– Так дождь на улице.
– Дождь?
– Угу.
– Я и не знал. Ну а ко мне ты почему пришёл? Да пройди сюда, не стой там.
– Можно?
– Да заходи же, говорю!
– Спасибо… – Я, это… проситься к Вам пришёл.
– Проситься?
– Да. Хочу учиться в Вашем классе десятилетки и хочу стать таким же классным пианистом, как Вы.
Артём Иосифович откашлялся, затем закрыл чемодан и, поставив его на пол, продолжил:
– Кто твоя учительница, Анна Михайловна?
– Да.
– А она знает о том, что ты хочешь стать классным пианистом?
– Не думаю.
– Почему?
– Она в меня не верит.
– Не верит?
– Да.
– А ты?
– Что я?
– Ты веришь в себя?
– Частично – да, частично – нет.
– В каком ты классе в общеобразовательной школе?
– В восьмом.
Артём Иосифович надул щёки и, с силой выдохнув воздух, произнёс:
– Саша, я не могу тебе пока что ничего ответить, поскольку твоё исполнение Шопена и сам уровень игры очень слабы для десятилетки, понимаешь?
– Понимаю, но если Вы меня возьмёте, Вы не пожалеете.
– Не пожалею, – засмеялся он. – Все вы так говорите, когда приходите на вступительные экзамены, а когда начинается обучение, все эти обещания приходится вам напоминать.
– Я помню всё.
– Ха-ха! Ладно, давай я хотя бы данные твои запишу, – произнёс он, достав из портфеля блокнот. – Как твоя фамилия?
– Каберман.
– Еврей? – посмотрел он на меня.
– Отец был евреем, мать русская.
– Почему был?
– Он умер.
– Ай, соболезную, – покачал он головой. – Твой домашний адрес?
– Спасибо. Город Колпино, улица Софийская №36/169, индекс 43122, номер телефона 3-54-66.
– Хорошо, Александр. Я подумаю над твоей просьбой, но ничего не обещаю, – предупредил он, поставив точку в блокноте.
– Спасибо.
– Пока не за что.
– А можно ещё кое-что спросить? – спросил я, глянув на стопку буклетов с его концерта.
– Ну?
– Можно, я возьму один из буклетов, а Вы на нём поставите свой автограф?
– Давай, – ответил он и, улыбнувшись, развернул буклет и начал что-то на нём писать.
Я принялся внимательно рассматривать гримёрную: на тремпеле висел его концертный фрак, на столе лежала разбросанная стопка нот, открытая пачка сигарет и какая-то книга. В ту же секунду дверь распахнулась и в гримёрную вошёл довольно упитанный директор филармонии в больших толстых очках и в синем костюме.
– Артём Иосифович, ну что?! Машина уже стоит, можем ехать. Анна Михайловна позвонила и сказала, что нас все ждут в ресторане.
– Едем, Александр Иванович, – не отрываясь от своего письма ответил он.
– Там такой ливень на улице – кошмар! – протянул последнее слово директор, внимательно оценив мой внешний вид.
– Здравствуйте, – поздоровался я.
– Привет! Юные поклонники, Артём Иосифович?
– Что-то в этом роде, – засмеялся Шварцман и, поставив автограф, свернул буклет и протянул мне. – Держи!
– Спасибо! – ответил я, вставая со стула.
– Ты сейчас домой? – спросил меня Шварцман.
– Да.
– Александр Иванович, мы можем этого парня закинуть на Софийскую 36?
– Да без проблем, – ответил тот.
Выйдя из филармонии, мы с Артёмом Иосифовичем расположились на заднем сидении машины и поехали по центру города, залитому огромными лужами.
– Артём Иосифович, ещё раз большое Вам спасибо за концерт, – поблагодарил директор, оборачиваясь назад. – Признаюсь честно, я в жизни ещё такого не слышал.
– Это Вам спасибо за тёплый прием. В этом зале игралось очень легко и охотно.
– Пустяки, приезжайте к нам чаще, а то у нас городок маленький, никто сюда ехать не хочет.
– Я с большим удовольствием.
– У Вас запланированы ещё какие-нибудь концерты на ближайшее время?
– Да. Послезавтра играю в Ленинградской филармонии, а затем двадцать пятого мая лечу играть в Милан.
– Ничего себе, в Италию? – с восторгом отозвался Александр Иванович. – А где бы Вы хотели сыграть больше всего?
– Там, где и все: в зале Карнеги-Холл, в Нью-Йорке.
– Да-а, – протянул Александр Иванович, – Карнеги-Холл – один из самых престижных залов для исполнения классической музыки. В 1891 году там играл Нью-Йоркский симфонический оркестр, которым дирижировал сам Пётр Ильич Чайковский.
– Ещё там играл один из моих самых любимых пианистов: Владимир Горовиц, слышали о таком? – добавил Артём Иосифович.
– Горовиц? Конечно! – протяжно произнёс последнее слово директор. – У меня даже пластинка его дома есть, он потрясающий. Жаль только, что он ушёл из концертной деятельности в связи с депрессией.
– А Вы разве не слышали, что он вернулся? – спросил Артём Иосифович.
– Да Вы что?
– В прошлое воскресенье, девятого мая, он отыграл с блеском концерт-возвращение в Карнеги-Холле. Мой друг из Америки был на его концерте. Говорит, что это было просто гениально.
– Какая хорошая новость! А отчего у него была депрессия, Вы не знаете?
– У Владимира Горовица очень сложная судьба, жизни всех членов его семьи закончились очень трагично. Сначала погиб его брат Яков, а другой из его братьев, Григорий, был отправлен в тюрьму за контрреволюционную деятельность, где тоже вскоре умер. В начале 20-х годов Горовиц начал гастролировать по городам России, Украины, Грузии и Армении, был очень востребован, но жил впроголодь. Потом у него появилась возможность уехать в Германию. В 30-х годах он познакомился с итальянским дирижером Артуро Тосканини, с которым они часто вместе выступали. Тосканини познакомил его со своей дочерью Вандой, у них завязался роман и они поженились. А в 1930 году, насколько я помню, у него скончалась мать, затем арестовали его отца и он умер через несколько лет прямо в камере…
– Кошмар, – тихо произнёс Александр Иванович.
– Затем в начале 40-х годов Горовиц эмигрировал в США, а в 1953 году объявил о прекращении своей концертной деятельности, но девятого мая этого года снова вернулся.
– Это что же, целых двенадцать лет он не выступал?
– Да. Но я думаю, что причиной такого длительного ухода со сцены стало ещё и то, что его очень многие критиковали как исполнителя, хотя нужно признать, что пианист он безупречный.
– Однозначно, – произнёс Александр Иванович, – ну, а я уверен, что и Вы, Артём Иосифович, однажды выступите в Карнеги-Холле!
– Будем надеяться.
– Так, вроде бы улица Софийская здесь, – заявил водитель.
– Да, вот мой дом! – подхватил я.
Машина подъехала к дому и я попрощался со всеми:
– Большое Вам спасибо!
– Давай, удачи! – пожелал мне на прощание Шварцман и волга двинулась в сторону главной дороги.
Проводив взглядом машину, я открыл буклет и прочитал вслух то, что мне написал на нём Артём Иосифович: «Никогда не сдавайтесь и не останавливайтесь! Следуйте этому девизу и Вы будете встречать закат своей жизни на самой высокой и прекрасной вершине. Уважаемому Александру Каберману от Артёма Шварцмана».
Улыбнувшись, я радостно вздохнул и двинулся домой.
– О, Господи, какой ты мокрый! – перепугалась мама, замерев с полотенцем в прихожей.
– Всё нормально, мам, я не утонул.
– Давай, быстро снимай всю одежду, – начала она мне помогать. – Какой ужас, всё мокрое!
Мою маму звали Анастасия Павловна, она была красивой женщиной высокого роста, с длинными чёрными волосами и стальным характером. Такой она стала после смерти нашего отца пять лет назад. Она как и прежде работала на швейной фабрике и иногда подрабатывала на дому, делая вещи на заказ. Она была по жизни далёким от творческого мира реалистом и не особо поддерживала мои музыкальные поиски. Но в творчестве Алисы она видела успехи и по советам преподавателей художественной школы всё-таки согласилась, чтобы Алиса в этом году поступала в художественный институт в Ленинграде.
Быстро надев сухую одежду, я влетел в комнату отца и, отодвинув этюдник с картиной Алисы, кинулся к отцовскому шкафу в поисках пластинки Горовица.
– Привет! Ну что, как концерт? – спросила Алиса, войдя в комнату.
– Привет! На, прочти! – протянул я ей буклет с автографом Шварцмана.
– Так ты что, всё-таки к нему подходил?
– Да, я ходил проситься к нему, – ответил я, широко улыбнувшись.
– Класс! – воскликнула она, замерев на месте. – И что, взял?!
– Взял только мои данные, – разочаровал я её, продолжив перебирать в руках пластинки, – сказал, что больше ничего не обещает.
– Кто не обещает? – спросила мама, входя в комнату и вытирая полотенцем чашку.
– Мама, я же тебе не сказала! – подхватила Алиса. – Саша сегодня играл на мастер-классе одного профессора из Ленинградской консерватории.
– И?
– И ходил проситься, чтобы он взял его к себе в класс десятилетки.
– Какая десятилетка, что за бред?! – замерла мама на месте. – Саша?
– Что?
– Это я ему посоветовала пойти и попроситься, – закатила глаза Алиса.
– Зачем?
– Потому что знаю, как он хочет быть пианистом.
– И что он тебе сказал? – посмотрела на меня мама.

