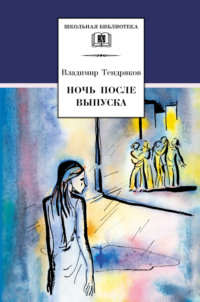
Ночь после выпуска (сборник)
– Никто. Я сам.
– Сам ты не мог.
Мать вступилась за Дюшку:
– А я бы сама с охотой поверила, что от смерти есть лазейка. С охотой, если б могла.
– Как ты можешь так говорить: ты же врач, ты же соприкасаешься с наукой ежедневно!
– Потому и говорю, что едва ли не ежедневно сталкиваюсь с бессилием своей науки, и уж если не каждый день, то часто… Как вот сегодня – со смертью. Бессмысленной. Равнодушной. Если б поверить – есть лазейка в бессмертие!
– И что? Помогло бы твое «поверить» бороться со смертью?
– Нет. Но мне самой было бы тогда куда легче.
– Так в чем же дело? Возьми да поверь. К твоим услугам даже старые рецепты: райские кущи, нетленные души, ангелы-серафимы и прочая белиберда.
– Слишком старые рецепты, наивные – вот беда. Не могу поверить.
– Меня лично смерть не пугает! Сколько мне там отпущено природой – шестьдесят, семьдесят, больше лет? Они для меня только и важны. Уж их-то я постараюсь использовать. Я за свое время успею наследить на земле. А смерть придет – что ж… Потусторонним спасать себя не стану.
Отец стоял посреди комнаты, расправив широкие плечи, вскинув большую взъерошенную голову, с обветренным, крепким, словно вычеканенным из меди лицом, – сам себе бог. И у матери впервые за этот вечер обмякли сплюснутые губы, дрогнули в улыбочке.
– Счастливый, – сказала она.
– Да! – с жаром ответил отец. – Да! Жизнью, мне выпавшей, счастлив.
– Но коза бабки Знобишиной счастливее тебя. Она живет себе и знать не знает, что существует такая неприятность, как смерть.
Отец фыркнул, отпихнул ногой стул, слишком близко стоявший к нему, а мать со слабой улыбкой склонилась над вязаньем.
И тогда отец повернулся к Дюшке:
– Я знаю, откуда у тебя эта шелуха! Дружок твой тебе принес, этот Минька! Отец у него не от мира сего, накрутил сыну…
– Уж верно, – подтвердила Климовна. – Их-то атла́с липнет до нас.
И как раз в эту минуту за дверью раздался робкий полустук-полуцарапанье.
– Кто там? Входите! – крикнул отец.
И вошел Минька. В новешенькой куртке с «молнией», как у Левки Гайзера, – мечта всех ребят, мечта Дюшки. Встал на пороге со стеснительной светлой улыбочкой, но натолкнулся взглядом на Дюшкиного отца и заробел – улыбочка слиняла.
– У меня сегодня… День рождения у меня… Так я думал – Дюшку… Мама торт к чаю испекла.
– Мам, я пойду! – вскочил Дюшка, готовый спорить и доказывать.
– Надень только чистую рубашку. И хорошо бы подарок…
– Минька! Я тебе свой конструктор подарю!
Минька снова стеснительно заулыбался, а отец молчал. Отец попросту был лишен права голоса.
Коробку «Конструктор» Дюшка положил в портфель, вытряхнув из него учебники, а спустившись вниз, отдал конструктор Миньке, вместо него загрузил вынутый из-под лестницы кирпич. Дураков нет – снова в лапы Саньке.
– Минька, одна девчонка… Но это секрет, Минька! Никому!
– Не. Могила.
– Одна девчонка второй раз живет.
– Как это, Дюшка?
– Очень просто. Жила, жила когда-то да умерла, а потом второй раз родилась.
– Дюшка, ты чего?
– Спроси Левку Гайзера – так бывает, наукой доказано.
– Левка… Он знает. Только я все равно не верю, Дюшка.
– Раньше эта девчонка знаешь кем была?
– Кем?
– Женой Пушкина.
– Д-дюш-ка!..
– Слышал, никому, секрет!
15На столе стояло два торта – один уже разрезанный, для еды, другой большой, круглый, красивый, для свечей. Тринадцать тоненьких елочных свечей горели бескровно-бледными огоньками. Тринадцать лет Миньке, он на два месяца моложе Дюшки. Дюшке ко дню рождения такого торта со свечами не поставили – ни мать, ни Климовна не догадались.
И еще на столе бутылка, не ситро какое-нибудь, а настоящее вино, красное до черноты, торжественный мрак под поблескивающим стеклом, сразу видно – праздник не на шутку.
Минька не захотел снимать новую куртку, так в ней и уселся за стол – потеет, поеживается от удовольствия, щурится на тринадцать свечей и улыбается так широко, что видна щербинка в зубах, которую раньше Дюшка не замечал.
Минькина мать в кружевном воротнике, с большой брошью, толстые косы обвиты вокруг головы, лицо крупное, белое, с выдвинутой вперед нижней губой. Она и прежде всегда немного пугала Дюшку, сейчас он при ней чувствовал себя что-то неловко, в голове с самого дна всплывали забытые наставления вроде: не клади локти на стол, держи нож в правой руке, не смейся слишком громко. И Дюшка старался: не клал локти на стол, улыбался по-взрослому, не раскрывая рта, уголками губ, тонко, значительно, высокомерно, как какой-нибудь граф Монте-Кристо.
Минькин отец вблизи, в домашней обстановке, не выглядел уж таким странным, каким казался на улице: умытый, светлый, щупленький, беспокойный, с мальчишеским хохолком на макушке, с сухим, судорожным, вовсе не мальчишеским блеском в потемневших глазах. Он постоянно порывался помочь жене, но видел, что мешает, конфузился, впадал на минутку в уныние, но быстро веселел, снова начинал дергаться и суетиться.
Наконец он ломкими, неловкими пальцами раскупорил парадную бутылку и, рискованно балансируя, налил марочное вино – полную рюмочку жене, полную рюмочку себе, капнул на донышко Дюшке, капнул Миньке, чинно вытянулся, значительно прокашлялся:
– Мой сын! Все мы желаем тебе счастья. А что это такое, сын?..
Минька кинул взгляд на мать, и щербинка в зубах исчезла, он поежился и стал медленно клониться к столу. А мать – ничего, сидела с высоко поднятой головой, глядела прямо перед собой, и белое лицо ее было спокойно.
– Ты радуешься новой куртке, сын. Радуйся, но помни – ни куртка, ни любая другая вещь не делает человека счастливым. Люди наделали много вещей, полезных, помогающих удобно жить, но счастливей от этого не стали…
– Никита…
Мать по-прежнему глядела перед собой со спокойным лицом.
– А что?.. Разве я что-нибудь?
– Хоть сегодня-то не заумничай, Никита. Дети же перед тобой. Что они поймут?
И Минькин отец загляделся в свою рюмку, в красные отсветы тяжелого вина.
– Да… – сказал он. – Да… Так выпьем… Вы пьем, сын, за то, чего не было никогда у твоего отца – за уважение.
Опрокинул в себя рюмку, сел, и хохолок бесцветных волос потерянно торчал на его макушке.
– А я, сынок, – подняла рюмку мать, – пью за то, чтобы стал ты нормальным человеком, жил нормальной, как у всех, жизнью. Это, наверное, и есть счастье.
– Что та-кое нор-маль-ность? – спросил Минькин отец.
– Не будем сегодня затевать спор, Никита.
– Да… Да… Хорошо, Люся. Не будем.
Выпили. Дюшка тоже – каплю сладкого, едкого вина со дна рюмки. За столом наступило молчание. Дюшка не клал локти на стол, улыбался уголками губ. Счастье, должно быть, очень приятная вещь, но Дюшка замечал, что разговоры о счастье у взрослых почти всегда бывают неприятными. И Дюшкин отец недавно говорил о счастье раздраженно: «Жизнью, выпавшей мне, счастлив». И Дюшкина мать не верила ему: «Коза бабки Знобишиной счастливее».
Заговорила Минькина мать, грустно, ласково, на этот раз глядя прямо на Миньку:
– Я хочу, сынок, чтоб у тебя в жизни было побольше маленьких радостей, хотя бы таких вот, как эта новая куртка. И чтоб ты и другим дарил такие маленькие…
– Нет! Нет! – снова пришел в волнение Минькин отец. – Желать маленького – курточек, чистых простынь, вкусных пирогов… Нет! Нет! Унизительно!
Минька в своей новой нарядной куртке пригибался к столу, прятал лицо. Минькин отец беспокойно ерзал на стуле, глядел на Минькину мать просящими глазами, ждал возражений. Но Минькина мать молчала, только лицо ее стало неподвижным, каким-то тяжелым.
– Ты клевещешь на себя, Люся.
– Я простая баба, Никита, хочу уюта, чистоты, покоя, не заносясь высоко.
– Нет, нет, ты не такая! Не клуша!
– Была… Девчонкой верила: с милым рай и в шалаше. Теперь не устраивает.
Минькин отец повернулся к Дюшке:
– Мальчик, не верь ей. Это великая женщина!
– Брось, Никита, не надо.
– Четырнадцать лет мы живем рядом, в одних стенах. Я вижу ее каждый день… Каждый день по многу, многу раз. И всякий раз, как я вижу ее, во мне что-то обрывается. У меня изорвана вся душа, мальчик. Все внутренности в лохмотьях. И я… я благодарен ей за это. За рваные незаживающие раны… В конце концов исступленная боль заставит меня найти такие слова, от которых все содрогнутся!
Любить иных – тяжелый крест,А ты прекрасна без извилин,И прелести твоей секретРазгадке жизни равносилен.Это еще не мои слова. Я пока не дорос до такого. Но дорасту, дорасту! Мир содрогнется, когда выплесну изболевшееся!
– Мир?.. От тебя?! Я уже разучилась смеяться, Никита.
– А вдруг да́, вдруг да́, Люся! Вдруг да явится Данте из поселка Куделино, воспевающий свою Беатриче. Сколько было на свете таких, которые казались смешными, над которыми издевались при жизни, а после смерти ставили им памятники.
– О Господи! После смерти – памятник. Чем ты себя баюкаешь? Какая цена этому бреду? Цена – наша жизнь, моя, его! – Мать кивнула на Миньку. – Он сегодня в первый раз получил подарок. А я хотела бы хоть раз, хоть на одну недельку вырваться из этого сырого леса, из этого заваленного бревнами Куделина… Я ни разу в жизни не видела моря… «Любить иных тяжелый крест». Ложь! Быть любимой – тяжелый крест, когда тебя любят не просто, а с расчетом на… на памятник после смерти.
У Минькиной матери покраснел лоб, в глазах блестели слезы, блестели и не проливались, а отец Миньки съежился, втянул голову в плечи, на макушке, словно выстреленный, несолидный хохолок.
– Я раб. Я не могу взбунтоваться, – сказал он. Мать Миньки ничего не ответила, сидела прямая, красивая, с высоким возмущенным лбом под тяжелыми косами, смотрела куда-то далеко сквозь непролитые слезы.
– Люся, поедем отсюда… в город. Я снова поступлю в газету.
Она не шевельнулась.
– Люся, я забуду, что презирал газетчину. Я буду писать статьи…
– Нас никто не ждет в городе. Где нам там жить? И твои обозрения не прокормят… Если ехать, то без тебя, мне хватит одного груза – сына.
Минька сидел, уткнувшись лицом в стол, в новой куртке, такая во всем поселке только у одного Левки Гайзера. У Минькиной матери на глазах невылившиеся слезы, а у Миньки… не видно. Разговоры о счастье.
На круглом торте оплывали тонкие свечи – тринадцать свечей, тринадцать лет.
– Он стихи, Дюшка, пишет. Он все знаменитым стать хочет.
– Минька, он очень несчастный.
– А мамка не несчастная, Дюшка?
– Он ее любит, она его – нет. Кто несчастнее?
Вечерний воздух на улице Жана Поля Марата был пронизан блуждающими запахами – земляной сыростью, горечью новорожденных листьев, сладковатой древесной истомой выкаченных из реки бревен. И от самой реки через весь поселок мощно тянуло пресной прохладой. Но всего сильней пахнул одинокий молодой тополек, стоящий на углу Минькиного дома. Неприметный днем, неказистый, забытый, он сейчас буйствовал в сумерках, источал такую напористую свежесть, что хотелось пить, пить, пить воздух, наливаться бодрой силой. Весь пахучий мир лишь слабо подтягивал этому маленькому запевале.
– Значит, мамка плохая, Дюшка?
– А разве я говорил, что она плохая?
– Не любит же, виновата.
– А можно любить, если не любится, Минька? Это все равно – пей воду, когда не пьется.
– Так мамка хорошая, Дюшка?
– Да.
– И папка хороший?
– Да.
– Как же так, Дюшка: мамка хорошая, папка хороший, а дома плохо, хоть беги?
Дюшка растерялся: случается ли, что хорошие люди творят плохое? Было бы куда проще найти виновника.
Выскочивший провожать Минька убито топтался перед Дюшкой. Блуждали в воздухе беспокойные запахи. Неказистый, смиренный тополек – главный бунтарь средь беспокойных.
16«Одному ученому нужно было узнать, сколько в пруду рыб. Для этого он забросил сеть и поймал тридцать штук. Каждую рыбу он окольцевал и выпустил обратно. На другой день он снова забросил сеть и вытащил сорок рыб, на двух из которых оказались кольца. И ученый вычислил, сколько приблизительно рыб в пруду. Как он это сделал?»
Вася-в-кубе время от времени проводил «урок одной задачки» вместо контрольной. В такие дни он был строг, немногословен, важен – он ждал победителя. И уж этого победителя Вася-в-кубе заносил в отдельную книгу, хвалил где только мог: «Проницательного ума. Незаурядных способностей. Надежда школы».
Дюшка же победителем стать не мечтал – выше тройки никогда не хватал по математике. Но в последнее время он научился решать задачки. Каждая задача – нераскрытая тайна. Тайна и здесь…
Гуляют в пруду рыбы. Да разве можно их пересчитать? Руками не перещупаешь – мол, раз, два, три, четыре… Ин-те-рес-но!
Дюшка по привычке записал: «Сколько рыб в пруду = х». Икс тайны не раскрывал, и Дюшка сразу забыл его.
С первого же раза ученый вытащил тридцать рыбин. Ничего улов, значит, водится в пруду рыбка.
Тридцать рыб гуляют в пруду с кольцами на хвостах. Две из них – только две! – вытащил ученый среди сорока. Есть в пруду рыбка, есть. Маловато вытащено с кольцами. Во сколько же раз больше неокольцованных? Сорок, а среди них всего две. Да ясно же – в двадцать раз!.. Ха! И это называется трудная задача! Тридцать окольцованных помножить… Но икс? При чем тут он? Куда бы его приспособить?
Все это как-то очень быстро пронеслось в Дюшкиной голове – за каких-нибудь пять минут. Вася-в-кубе не успел еще стряхнуть с себя мел, не успел опуститься на стул.
– Чего тебе, Тягунов? – кисленько спросил он, увидев Дюшку, тянувшего руку.
Конечно же он подумал, что Тягунову приспичило выйти из класса – самое время подальше от задачи.
– Я решил.
Грозные брови Васи-в-кубе поползли к лысине, а класс притих.
– Покажи! – Приказ недобрым голосом.
Показывать Дюшке было нечего, в тетради после условия задачи стояла только одна запись: «Сколько рыб в пруду = х». И непонятно, к чему этот икс нужен?
– Я в уме решил, Василий Васильевич.
– Час от часу не легче, – проворчал Вася-в-кубе и снова кисленьким голосом: – Что ж, Федор Тягунов, выйди к доске, послушаем твое решение.
Дюшка сам оробел от своей дерзости, однако вышел, встал, как положено, лицом к классу и рассказал:
– Тридцать рыбин в кольцах. Две попались среди сорока. Значит, неокольцованных в двадцать раз больше. Тридцать на двадцать – всего шестьсот.
И все, умолк, страдая, что рассказ его занял так мало времени.
Класс недоверчиво молчал. Вася-в-кубе возносил к лысине брови и разглядывал Дюшку.
– Да!.. – наконец подал он голос. – Да!.. Все правильно. Просто и ясно. У тебя ясный ум, Тягунов! Ты лодырь, Тягунов! Ты два года водил меня за нос, прятал за ленью свои способности. Незаурядные способности! – Вася-в-кубе повернулся к молчащему классу. – Вот как надо мыслить, друзья. Молниеносно! Вламываться сразу в самую суть.
И громовым басом, почти угрожающе Вася-в-кубе принялся расхваливать Дюшку. Дюшка стоял у доски и от непривычки чувствовал себя очень плохо – хоть провались сквозь пол от этих похвал.
Наконец Вася-в-кубе торжественно умолк, торжественно вынул из нагрудного кармана самописку, торжественно отвинтил колпачок, торжественно склонился над журналом… Сомневаться не приходилось – пятерка.
– Голубчик, возьми щетку, приведи себя в порядок.
…Слух о Дюшкином ученом подвиге быстро разнесся по всей школе: шутка ли, за пять минут – в уме! – задачу «на победителя».
На перемене к нему подошел Левка Гайзер:
– Старик, ты быстро научился плавать.
Как равный равному, уже не называя Дюшку тараканом.
И это слышали все, кто был в эту минуту в коридоре. И случайно тут стояла Римка Братенева. Стояла, слышала, смотрела на Дюшку. Уважительно.
Он станет великим математиком и прославит школу, поселок Куделино, отца, мать, Миньку, с которым дружит, бабушку Климовну, которая его вынянчила.
Он вместе с Левкой откроет, что Вселенная бесконечна. И хотя он не знает, почему от бесконечности должны вновь рождаться уже умершие люди, все равно откроет. Левка снова появится на свет, он, Дюшка, тоже, и Минька, и отец с матерью – все, все узнают, что никто не умирает насовсем.
Он еще знает то, о чем не подозревает даже Левка: Римка Братенева когда-то была женой Пушкина.
Он умеет видеть, чего никто не видит.
Он разглядел, что отец Миньки вовсе не такой уж плохой человек.
Он пойдет к Минькиной матери и скажет: полюби мужа – он станет счастливым.
И Минька тоже…
А все в поселке удивятся: какой хороший человек Дюшка Тягунов.
И какой умный!
И Римка первая подойдет к нему: давай, Дюшка, дружить.
А он ее тогда спросит: «Ты знаешь, кто ты?» – «Нет». – «Наталья Гончарова, жена Пушкина, первейшая красавица – «чистейшей прелести чистейший образец».
Дюшка был счастлив и не подозревал, что счастье капризно.
После уроков он одним из первых выскочил с портфелем из школы. В портфеле по-прежнему лежал кирпич. Существует на белом свете Санька Ераха, и с этим, хочешь не хочешь, приходится считаться.

Миньке он решительно сказал:
– Иди один, у меня дела.
Он хотел видеть Римку. Почему-то он надеялся: сегодня она пойдет домой одна, без девчонок. И он попадется ей на глаза. Конечно, нечаянно. И она заговорит, и они вместе пойдут домой. И кто знает, быть может, он уже сегодня, сейчас, через несколько минут, скажет: «Чистейшей прелести чистейший образец». Вчера о таком и мечтать не смел. Вчера он был обычным мальчишкой, каких много в школе.
Он долго кружил на углу улиц Жана Поля Марата и Советской, пока не увидел ее.
Она шла без девчонок, но не одна. Шла тихо, нога за ногу, смотрела в землю, тонкая, скованная, знакомая, хоть задохнись. И рядом с ней – поролоновая курточка нараспашку – вышагивал Левка Гайзер. И тоже нога за ногу, не спеша, вдумчиво. Он что-то говорил ей, она слушала и клонила голову вниз, и было видно издалека – не хочет быстрей идти, нравится. Знакомая и чужая.
Минуту назад он верил, что прославит школу, поселок, отца, мать, старую Климовну, даже Миньку. Сейчас он представил себя со стороны – так, как если б Римка вдруг подняла голову и увидела его. Посреди улицы мальчишка в штанах с пузырями на коленях, с толстым портфелем в руке. Он носит с собой кирпич, потому что боится Саньки Ерахи. Ему постоянно чудится черт знает что, черт-те о чем мечтает. Он случайно решил задачу и зазнался. Он не умеет крутить на турнике «солнце», у него нет накачанных мускулов, нет красивой куртки.
Римка с Левкой не спеша двигались на него. Надо было уходить, надо прятаться, но ноги не слушались…
Минуту назад он чувствовал себя чуть ли не самым счастливым человеком на свете. Ошибался – самый несчастный.
Мир играл с Дюшкой в перевертыши.
17А на следующий день на уроке Васи-в-кубе в тихую минуту Дюшка, доставая тетрадь из портфеля, нечаянно выронил кирпич на пол. Гулкий удар, должно, слышен был на всех этажах.
Кирпич перешел в руки Васи-в-кубе.
– Тягунов, что такое? Для чего тебе эта штука?
Дюшка не пожелал сказать.
– Выясним.
После урока Вася-в-кубе торжественно отнес кирпич в учительскую.
Исчезли лужи, подсохли тропинки, выползала травка, распустившийся лист ронял на землю сквозную тень, и в скворечниках раздавался уже писк новорожденных скворцов. Все, что могла совершить весна, свершилось – состоялось ежегодное сотворение всего живого. Живому теперь предстоит расти и мужать. В разгар весны проглядывало лето.
И ребята праздновали: все высыпа́ли теперь во время перемены во двор без пальто, без шапок – крик, возня, взрывы смеха, каждый немножко пьян от солнца и воздуха. Даже верный друг Минька по-поросячьи повизгивает где-то в стороне, забыв о Дюшке.
Девчонки тесно сбились у прогретой стены, галдят. С ними Римка…
Нет радости, что она близко, что глаза ее видят, уши ее слышат.
Нет радости от тепла, от солнца, от яркой узорной зелени.
И вообще, всякая радость – обман. Сейчас есть, через минуту – исчезла.
И впереди тягостное объяснение с Васей-в-кубе, быть может, с самой директрисой Анной Петровной: «Зачем кирпич? Почему кирпич?»
И Санька, конечно, уже знает, что он, Дюшка, обезоружен.
Санька стоит под столбом, на котором когда-то висели канаты для «гигантских шагов». Как всегда, вокруг Саньки холуи вроде Кольки Лыскова. Дюшке видна Санькина соломенная шевелюра, слышен его сипловатый голос. Вокруг Саньки сейчас смеются. Должно быть, Санька говорит о нем, Дюшке, должно, что-то обидное.
И Санькины речи, возможно, слышит Римка. Она сейчас стоит ближе к Саньке, чем Дюшка, ей слышней.
От Санькиной группы отделился Колька Лысков, с прискоком жеребенка подтрусил к Дюшке, жмурится всей сведенной в кулачок старушечьей рожицей.
– Дюшка… – Голос сладенький, сочувственный (сейчас скажет пакость). – Как же ты сегодня без кирпича домой?..
Дюшка смотрит мимо счастливо жмурящегося Кольки, молчит. А Колька хоть бы что – привык, когда встречают: «Видеть тебя не могу».
– Дю-юш-ка… Санька говорит, чтобы ты лучше не выходил из школы. Он тебя и с кирпичом хотел… У тебя кирпич, а у него ножик. Хи-хи!.. Теперь он тебя и без ножа… Хи-хи! Мамка не узнает.
Привирает Колька про нож. А может, и нет. Не зря же Санька тогда кричал: «Кровь пущу!»
Колька улыбчиво жмурится, Колька рад, что скоро увидит, как Санька расправится с Дюшкой. Сам Колька никогда ни с кем не дрался, но любит глядеть драки, хлебом не корми. Дюшка не выдержал, засмотрелся на улыбчивого Кольку. Стукнуть его, что ли? Утрется и убежит, а Саньку все равно не минуешь. Санька не знает жалости, а за Дюшкой теперь много числится – будет бить насмерть.
Радостно, в самое лицо улыбается Колька Лысков. И в Дюшке вдруг что-то поднялось из глубин, от желудка к горлу, стало трудно дышать. Не столько от ненависти к Саньке, сколько от стыда за себя: боится же, боится, и это сейчас видит Колька, наслаждается его страхом. Он таскался как дурак с кирпичом и прятался за спину Никиты Богатова. Богатов никак не герой, но Саньки не испугался. А если у Саньки нож, что стоило ему ударить ножом взрослого. И ни разу он, Дюшка, не схлестнулся по-настоящему с Санькой. Санька готов был открыто помериться силой, Санька, выходит, честней…
Жмурится в лицо Колька Лысков. Девчоночьи голоса в стороне. Девчоночьи голоса и смех. И резануло по сердцу – прозвучал смех Римки, звонкий, чистый, серебряный, не спутаешь.
Дюшка шагнул вперед. Колька Лысков шарахнулся от него столь быстро, что морщинистая улыбочка не успела исчезнуть.
Опустив плечи, пригнув голову, Дюшка двинулся прямо на столб, под которым торчала соломенная нечесаная Санькина волосня. Окружавшие Саньку ребята зашевелились, запереглядывались между собой и… расступились, давая Дюшке дорогу.
Санька оторвал плечо от столба, встал прямо: болотная зелень в глазах, серый твердый нос, на плоских скулах, на подбородке стали медленно просачиваться красные пятна. Все-таки чуточку он побаивается, все-таки Дюшка чем-то страшен ему – пятна и глаза круглит. Дюшка зарылся взглядом в зелень Санькиных глаз.
– Палач! Скотина! Думаешь, боюсь?
– Да неуж?.. Может, тронешь пальчиком?
Над школьным двором стоял звонкий, веселый гвалт. Никогда еще так плохо не чувствовал себя Дюшка: никому до него нет дела, никому, кроме Саньки. Санька ненавидит его, он – Саньку!
И со стороны снова донесся беззаботный Римкин смех, особый, прозрачный, колеблющийся, как нагретый воздух, что дрожащим маревом поднимается над землей.
И смех толкнул… Всю выношенную ненависть, свои несчастья, свой стыд – в пятнистую физиономию, в нечистую зелень глаз, в кривую узкую улыбочку! Кулак Дюшкин врезался с мокрым звуком, Санька качнулся, но устоял. Дюшка ударил второй раз, но попал в жесткое, как булыжник, Санькино плечо.
Прямо перед собой – два круглых провальных глаза. Дюшка не успел выбросить им навстречу кулак. Он не почувствовал боли, он только услышал хруст на своем лице, и яркий солнечный двор, и синее небо качнулись, потекли, стали жидко проваливаться местами, пятнами, а на голову словно нахлобучили чугунный тяжелый горшок. Кажется, он успел пнуть ногой Саньку, тот охнул и согнулся…
После этого он помнил только какие-то пестрые клочья: нацеленный серьезный Санькин нос; треснувшая на груди рубаха; судорожно сжатый кулак, свой кулак, запачканный свежей кровью, собственной или Санькиной – неизвестно; Санькин скривленный рот; стена мальчишеских лиц, серьезных от испуга… И тишина во дворе, солнце и тишина, и тяжелое сопение Саньки… Дюшка налетал, бил, промахивался. Санька отбрасывал его от себя, но Дюшка снова налетал, снова бил… Вытаращенные глаза Саньки, скривленные губы Саньки, кулак в судороге…

