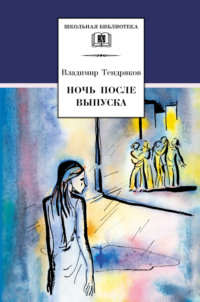
Ночь после выпуска (сборник)
Но букетов с цветами все-таки стояло больше, чем бутылок: прощальный вечер должен быть красив и благопристоен, вселять веселье, однако в границах дозволенного.
Словно и не было странного выступления Юлечки Студёнцевой. Произносились тосты за школу, за здоровье учителей, звон стаканов, смех, перекатные разговоры, счастливые, раскрасневшиеся лица – празднично. Не первый выпускной вечер в школе, и этот начинался как всегда.
И только, словно сквознячок в теплой комнате, среди разгоревшегося веселья – охолаживающая настороженность. Директор Иван Игнатьевич несколько рассеян, Ольга Олеговна замкнуто-молчалива, а остальные учителя бросают на них пытливые взгляды. И Юлечка Студёнцева сидела за столом потупившись, связанно. К ней время от времени подбегал кто-нибудь из ребят, чокался, перекидывался парой слов – выражал свою солидарность – и убегал.
Как всегда, чинное застолье быстро сломалось. Бывшие десятиклассники, кто оставив свой стул, кто вместе со стулом, передвигались к учителям.
Самая большая, самая шумная и тесная компания образовалась вокруг Нины Семеновны, учительницы начальной школы, которая десять лет назад встретила всех этих ребят на пороге школы, рассадила по партам, заставила раскрыть буквари.
Нина Семеновна крутилась среди своих бывших учеников и только сдавленно выкрикивала:
– Наточка! Вера! Да Господи!
И платочком осторожно утирала слезы под крашеными ресницами.
– Господи! Какие вы у меня большие!
Натка Быстрова была на полголовы выше Нины Семеновны, да и Вера Жерих тоже, похоже, перегнала ростом.
– Вы для нас самая, самая старая учительница, Нина Семеновна!
«Старой учительнице» едва за тридцать, белолица, белокура, подобранно-стройна. Тот первый, десятилетней давности, урок нынешних выпускников был и ее самым первым самостоятельным уроком.
– Такие большие у меня ученицы! Я действительно старая…
Нина Семеновна утирала платочком слезы, а девчонки лезли обниматься и тоже плакали – от радости.
– Нина Семеновна, давайте выпьем на брудер шафт! Чтоб на «ты», – предложила Натка Быстрова.
И они рука за руку выпили, обнялись, расцеловались.
– Нина, ты… ты славная! Очень! Мы все время тебя помнили!
– Наточка, а какая ты стала – глаз не отвести. Была, право, гадким утеночком, разве можно догадаться, что вырастешь такой красавицей… А Юлечка… Где Юлечка? Почему ее нет?
– Юлька! Эй! Сюда!
– Да, да, Юлечка… Ты не знаешь, как часто я о тебе думала. Ты самая удивительная ученица, какие у меня были…
Возле долговязого физика Павла Павловича Решникова и математика Иннокентия Сергеевича, с лицом, стянутым на одну сторону страшным шрамом, собрались серьезные ребята. Целоваться, обниматься, восторженно изливать чувства они считают ниже своего достоинства. Разговор здесь сдержанный, без сантиментов.
– В физике произошли подряд две революции – теория относительности и квантовая механика. Третья наверняка будет не скоро. Есть ли смысл теперь отдавать свою жизнь физике, Павел Павлович?
– Ошибаешься, дружочек: революция продолжается. Да! Сегодня она лишь перекинулась на другой континент – астрономию. Астрофизики что ни год делают сногсшибательные открытия. Завтра физика вспыхнет в другом месте, скажем в кристаллографии…
Генка Голиков, парадно-нарядный, перекинув ногу за ногу, с важной степенностью рассуждает – преисполнен уважения к самому себе и к своим собеседникам.
Возле директора Ивана Игнатьевича и завуча Ольги Олеговны толкучка. Там разоряется Вася Гребенников, низкорослый паренек, картинно наряженный в черный костюм, галстук с разводами, лакированные туфли. Он, как всегда, переполнен принципами – лучший активист в классе, ратоборец за дисциплину и порядок. И сейчас Вася Гребенников защищает честь школы, поставленную под сомнение Юлечкой Студёнцевой:
– Наша альма-матер! Даже она, Юлька, как бы ни заносилась, а не выкинет… Нет! Не выкинет из памяти школу!
Против негодующего Васи – ухмыляющийся Игорь Проухов. Этот даже одет небрежно – рубашка не первой свежести и мятые брюки, щеки и подбородок в темной юношеской заросли, не тронутой бритвой.
– Перед своим высоким начальством я скажу…
– Бывшим начальством, – с осторожной улыбкой поправляет его Ольга Олеговна.
– Да, бывшим начальством, но по-прежнему уважаемым… Трепетно уважаемым! Я скажу: Юлька права, как никогда! Мы хотели наслаждаться синим небом, а нас заставляли глядеть на черную доску. Мы задумывались над смыслом жизни, а нас неволили – думай над равнобедренными треугольниками. Нам нравилось слушать Владимира Высоцкого, а нас заставляли заучивать ветхозаветное: «Мой дядя самых честных правил…» Нас превозносили за послушание и наказывали за непокорность. Тебе, друг Вася, это нравилось, а мне нет! Я из тех, кто ненавидит ошейник с веревочкой…
Игорь Проухов в докладе директора отнесен был в самобытные натуры, он лучший в школе художник и признанный философ. Он упивается своей обличительной речью. Ни Ольга Олеговна, ни директор Иван Игнатьевич не возражают ему – снисходительно улыбаются. И переглядываются.
Своего собеседника нашел даже самый молодой из учителей, преподаватель географии Евгений Викторович – над безмятежно-чистым лбом несолидный коровий зализ, убийственно для авторитета розовощек. Перед ним Сократ Онучин:
– Мы теперь имеем равные гражданские права, а потому разрешите стрельнуть у вас сигарету.
– Я не курю, Онучин.
– Напрасно. Зачем отказывать себе в мелких житейских наслаждениях. Я лично курю с пятого класса. Нелегально, разумеется, – до сегодняшнего дня.
И только преподавательница литературы Зоя Владимировна сидела одиноко за столом. Она была старейшая учительница в школе, никто из педагогов не проработал больше – сорок лет с гаком! Она встала перед партами еще тогда, когда школы делились на полные и неполные, когда двойки назывались неудами, а плакаты призывали граждан молодой Советской страны ликвидировать кулачество как класс. С тех лет и через всю жизнь она пронесла жесткую требовательность к порядку и привычку наряжаться в темный костюм полумужского покроя. Сейчас справа и слева от нее стояли пустые стулья, никто не подходил к ней. Прямая спина, вытянутая тощая старушечья шея, седые до тусклого алюминиевого отлива волосы и блекло-желтое, напоминающее увядший цветок луговой купальницы лицо.
Заиграла радиола, и все зашевелились, тесные кучки распались, казалось, в зале сразу стало вдвое больше народу.
* * *Вино выпито, бутерброды съедены, танцы начали повторяться. Вася Гребенников показал свои фокусы с часами, которые прятал под опрокинутую тарелку и вежливо доставал из кармана директора. Вася делал эти фокусы с торжественной физиономией, но все давно их знали – ни одно выступление самодеятельности не проходило без пропавших у всех на глазах часов.
Дошло дело до фокусов – значит, от школьного вечера ждать больше нечего. Ребята и девчата сбивались по углам, шушукались голова к голове.
Игорь Проухов отыскал Сократа Онучина:
– Старик, не пора ли нам вырваться на свежий воздух, обрести полную свободу?
– Мы мыслим в одном плане, фратер. Генка идет?
– И Генка, и Натка, и Вера Жерих… Где твои гусли, бард?
– Гусли здесь, а ты приготовил «пушечное ядро»?
– Предлагаю захватить Юльку. Как-никак она сегодня встряхнула основы.
– У меня лично возражений нет, фратер.
Учителя один за другим потянулись к выходу.
3Большинство учителей разошлись по домам, задержались только шесть человек.
Учительская щедро залита электрическим светом. За распахнутыми окнами по-летнему запоздало назревала ночь. Вливались городские запахи остывающего асфальта, бензинового перегара, тополиной свежести, едва уловимый, жалкий, стертый след минувшей весны.
Снизу все еще доносились звуки танцев.
Ольга Олеговна имела в учительской свое насиженное место – маленький столик в дальнем углу. Между собой учителя называли это место прокурорским. Во время педсоветов отсюда часто произносились обвинения, а порой и решительные приговоры.
Физик Решников с Иннокентием Сергеевичем пристроились у открытого окна и сразу же закурили. Нина Семеновна опустилась на стул у самой двери. Она здесь гостья – в другом конце школы есть другая учительская, поменьше, поскромней, для учителей начальных классов, там свой завуч, свои порядки, только директор один, все тот же Иван Игнатьевич. Сам Иван Игнатьевич не сел, а с насупленно-распаренным лицом, покачивая пухлыми борцовскими плечами, стал ходить по учительской, задевая за стулья. Он явно старался показать, что говорить не о чем, что какие бы то ни было прения неуместны – время позднее, вечер окончен. Зоя Владимировна уселась за длинный, через всю учительскую стол – натянуто-прямая, со вскинутой седой головой… снова обособленная. У нее, похоже, врожденный талант – оставаться среди людей одинокой.

С минуту Ольга Олеговна оглядывала всех. Ей давно за сорок, легкая полнота не придает внушительности, наоборот, вызывает впечатление мягкости, податливости – домашняя женщина, любящая уют, – и лицо под неукротимо вьющимися волосами тоже кажется обманчиво-мягким, чуть ли не бесхарактерным. Энергия таилась лишь в больших, темных, неувядающе красивых глазах. Да еще голос ее, грудной, сильный, заставлял сразу настораживаться.
– Ну так что скажете о выступлении Студёнцевой? – спросила Ольга Олеговна.
Директор остановился посреди учительской и произнес, должно быть, заранее заготовленную фразу:
– А собственно, что случилось? На девочку нашла минута растерянности, вполне, кстати, оправданная, и она высказала это в несколько повышенном тоне.
– За наши труды нас очередной раз умыли, – сухо вставила Зоя Владимировна.
Ольга Олеговна задержалась на увядшем лице Зои Владимировны долгим взглядом. Они не любили друг друга и скрывали это даже от самих себя. И сейчас Ольга Олеговна, пропустив замечание Зои Владимировны, спросила почти с кротостью:
– Значит, вы думаете, что ничего особенного не произошло?
– Если считать, что черная неблагодарность – ничего особого, – съязвила Зоя Владимировна и с досадой хлопнула сухонькой невесомой ладошкой по столу. – И самое обидное – одернуть, наказать мы уже не можем. Теперь эта Студёнцева вне нашей досягаемости!
От этих слов вспыхнула Нина Семеновна, густо, до слез в глазах:
– Одернуть? Наказать?! Не понимаю! Я… Я не встречала таких детей… Таких чутких и отзывчивых, какой была Юлечка Студёнцева. Через нее… Да, главным образом через нее я, молодая, глупая, неумелая, поверила в себя: могу учить, могу добиваться успехов!
– А мне кажется, произошло нечто особенное, – чуть возвысила голос Ольга Олеговна.
Директор Иван Игнатьевич пожал плечами.
– Юлия Студёнцева – наша гордость, человек, в котором воплотились все наши замыслы. Наш многолетний труд говорит против нас! Разве это не по вод для тревоги?
Громоздящиеся над темными глазами волосы, бледное лицо – Ольга Олеговна из своего угла требовательно разглядывала разбросанных по светлой учительской учителей.
4Припасена большая круглая бутылка «гамзы» в пластиковой плетенке – «пушечное ядро». Сократ Онучин прихватил свою гитару. Трое парней и три девушки из десятого «А» решили провести ночь под открытым небом.
Самым видным в этой группе был Генка Голиков. Генка – городская знаменитость, открытое лицо, светлоглаз, светловолос, рост сто девяносто, плечист, мускулист. В городской секции самбо он бросал через голову взрослых парней из комбината – бог мальчишек, гроза шпанистой ребятни из пригородного поселка Индии.
Это экзотическое название произошло от весьма обыденных слов – «индивидуальное строительство», сокращенно «индстрой». Когда-то, еще при закладке комбината, из-за острой нехватки жилья было принято решение – поощрять частную застройку. Выделили место – в стороне от города, за безымянным оврагом. И пошли там лепиться дома – то тяп-ляп, на скорую руку, сколоченные из горбыля, крытые толем, то хозяйски добротные, под железом, с застекленными террасками, со службами. Давно вырос город, немало жителей Индии переселилось в пятиэтажные, с газом, с канализацией здания, но Индия не пустела и не собиралась вымирать. В ней появлялись новые жители. Индия – пристанище перекати-поля. В Индии свои порядки и свои законы, приводящие порой в отчаяние милицию.
Недавно там объявился некий Яшка Топор. Ходил слух – он отсидел срок «за мокрое». Яшке подчинялась вся Индия, Яшку боялся город. Генка Голиков недавно схлестнулся с ним. Яшка был красиво брошен на асфальт на глазах его оробевших «шестерят», однако поднялся и сказал: «Ну, красавчик, живи да помни – Топор по мелочи не рубит!» Пусть помнит сам Яшка, обходит стороной. Генка – слава города, защитник слабых и обиженных.
Игорь Проухов – лучший друг Генки. И наверное, достойный друг, так как сам по-своему знаменит. Жители города больше знают не его самого, а рабочие штаны, в которых Игорь ходит писать этюды. Штаны из простой парусины, но Игорь уже не один год вытирает о них свои кисти и мастихин, а потому штаны цветут немыслимыми цветами. Игорь гордится ими, называет: «Мой поп-арт!»
Картины Игоря пока нигде не выставлялись, кроме школы, зато в школе они вызывали кипучие скандалы, порой даже драки. Для одних ребят Игорь гений, для других ничтожество. Впрочем, подавляющее большинство не сомневалось – гений! На картинах Игоря деревья сладко-розовые, а закаты ядовито-зеленые, лица людей безглазые, а цветы реснично-глазастые.
И еще славен Игорь Проухов в школе тем, что может легко доказать: счастье – это наказание, а горе – благо, ложь правдива, а черное – это белое. Никогда не угадаешь, что загнет в следующую минуту. Потрясающе!
Натка Быстрова… Уже на улицах встречные мужчины оглядываются ей вслед с ошалевшими лицами: «Ну и ну!» Лицо с чеканными бровями, текучая шея, покатые плечи, походка с напором, грудью вперед – посторонись!
Еще недавно Натка была обычной долговязой, угловатой, веселой, беспечно пренебрегающей науками девчонкой. Всем известно, что Генка Голиков вздыхает по ней. А вздыхает ли по Генке Натка – этого никто не разберет. Сам Генка тоже.
Вера Жерих, Наткина подруга, рыхловато-широкая, вальяжная, лицо крупное, мягкое, румяное. Она не умеет ни петь, ни плясать, ни горячо спорить на высокие темы, но всегда готова всплакнуть над чужой бедой, помирить поссорившихся, похлопотать за провинившегося. И ни одна вечеринка не обходится без нее. «Компанейская девка» – в устах Сократа Онучина это высшая похвала.
О себе же Сократ говорил: «Мама сделала меня смешным по обличью и по вывеске – папину фамилию окрутила с древнегреческим женихом. Уникальный гибрид – антик с алкашом. Чтоб, глядя на меня, люди не лопались от смеха, я обязан быть стильным». А потому Сократ, несмотря на школьные запреты, умудрился отрастить до плеч волосы, принципиально их не расчесывал, носил на немытой шее девичью цветную косынку, на груди – амулет, камень с дыркой на цепочке, куриный бог. И никогда не стиранные, донельзя узкие, с рваной бахромой внизу джинсы. И гитара через плечо. И суетливо вертляв – лицо из острых углов, серое, гримасничающее, с веселыми, без ресниц глазками. Непревзойденный исполнитель песен Высоцкого.
Генка считается врагом Индии, Сократа принимают там как друга – всем одинаково поет его гитара. Всем, кто хочет слушать. Даже Яшке Топору…
Шестой была Юлечка Студёнцева.
Сократ кривлялся, выдавал под гитару о Жирафе в «желтой жаркой Африке», влюбившемся в Антилопу:
Поднялся галдеж и лай,И только старый ПопугайГромко кр-р-рык-нул из ветвей:«Жыр-раф-ф бал-шой —Яму вид-ней!»Юлечка, держась за руки с Наткой и Верой, несла суровое каменное личико.
Город внезапно заканчивался обрывом, падающим к реке. Здесь самое высокое место. Здесь, над обрывом, разбит скверик. В центре его вздымался вровень с молодыми липками обелиск с мраморной доской, повернутой к городу. Доска была густо покрыта фамилиями погибших воинов:
АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ – рядовой
БАЗАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ – рядовой
БУТЫРИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ – старший сержант…
И так далее, тесно друг к другу, двумя столбцами.
Нет, воины пали не здесь и не лежали под памятником посреди сквера. Война и близко не подходила к этому городу. Те, чьи имена выбиты на мраморной доске, закопаны безвестно в приволжских степях, на полях Украины, среди болот Белоруссии, в землях Венгрии, Польши, Пруссии, бог знает где. Эти люди здесь когда-то жили, отсюда они ушли на войну, обратно не вернулись. Обелиск на высоком берегу – могила без покойников, каких много по нашей стране.
Мир за гребнем берега утопал в первобытной непотревоженной тьме. Там, за рекой, – болота, перелески, нежилые места, нет даже деревень. Плотная влажная стена ночи не пробивается ни одним огоньком, а напротив нее убегают вдаль сияющие этажи, ровные строчки уличных фонарей, блуждающие красные светляки снующих машин, холодное неоновое полыхание над крышей далекого вокзального здания – огни, огни, огни, целая звездная галактика. Обелиск с именами погибших в дальних краях, схороненных в неведомых могилах, стоит на границе двух миров – обжитого и необжитого, щедрого света и непокоренной тьмы.
Он поставлен давно, этот обелиск, до появления на свет всей честной компании, которая явилась сюда с гитарой и бутылкой «гамзы». Эти парни и девушки видели его еще во младенчестве, они много лет тому назад, едва осилив печатную грамоту, прочитали по складам первые фамилии: «Артюхов Павел Дмитриевич – рядовой, Базаев…» И наверняка тогда им не хватило терпения дочитать длинный список до конца, а потом он примелькался, перестал привлекать внимание, как и сам обелиск. До него ли, когда окружающий мир заполнен куда более интересными вещами: будка «Мороженое», река, где всегда клюют пескари и работает лодочная станция, в конце сквера кинотеатр «Чайка», там за тридцать копеек, пожалуйста, тебе покажут и войну, и выслеживание шпиона, и «Ну, погоди!» с удачливым Зайцем – обхохочешься. Мир с мороженым, пескарями, лодками, фильмами изменчив, не изменчив в нем лишь обелиск. Быть может, каждый из этих мальчишек и девчонок, чуть повзрослев, случайно натыкаясь взглядом на мраморную доску, задумывался на минуту, что вот какой-то Артюхов, Базаев и остальные с ними погибли на войне… Война – далекое-далекое время, когда их не было на свете. А еще раньше была другая война, Гражданская. И революция. А раньше революции правили цари, среди них самым знаменитым был Петр Первый, он тоже вел войны… Последняя война для ребят едва ли не так же старинна, как и все остальные. Если б обелиск вдруг исчез, они сразу бы заметили это, но, когда он незыблемо стоит на своем месте, нет повода его замечать.
Сейчас они пришли к обелиску потому, что здесь, возле него, красиво даже ночью – лежит рассыпанный огнями город внизу, шелестят пронизанные светом липки, и ночь бодряще пахнет рекой. И пусто в этот поздний час, никто не мешает. И есть скамейка, есть тяжелая, круглая, как ядро старинной пушки, бутылка «гамзы». Красное вино в ней при застойно-равнодушном, бесцветном свете ртутных фонарей выглядит черным, как сама ночь, напирающая на обрывистый берег.
Бутылка «гамзы» и один на всех стакан.
Сократ передал гитару Вере Жерих, со знанием дела стал откупоривать «пушечное ядро».
– Фратеры! Пьем по очереди кубок мира!
Игорь скромно попросил:
– Если нет возражений, то я…
Возражений быть не могло, обязанность Игоря Проухова, общепризнанного мастера высокого стиля, – провозглашать первый тост.
Сократ, нежно обнимая бутылку, нацедил ночной влагой полный стакан.
– Давай, Цицерон! – подбодрил Генка.
Игорь крепко сбит, кудлат, между разведенными скулами – рубленый нос, крутые салазки в темной дымке – зарождающаяся художническая борода, отрастить которую Игорь поклялся еще перед экзаменами. Он поднял стакан, мечтательно нацелился на него носом, минуту-другую выдерживал молчание, чтоб все прониклись моментом, чтоб в ожидании откровения испытали в душе некую священную зябкость.
– Друзья-путники! – с пафосом провозгласил он. – Через что мы сегодня перешагнули? Чего мы добились?..
Сократ Онучин во время паузы успел произвести нехитрый обмен – бутылку Вере, себе гитару. И он в ответ ударил по струнам и заблеял:
– Сво-бода раз! Сво-бо-да два! Сво-о-обо-о-да!
Это Игорю и было надо – точку опоры.
– Этот гейдельбергский человек хочет свободы! – возвестил он. – А может, вы все того же хотите?
– А почему бы и нет, – осторожно улыбаясь, подкинул Генка.
– Для всех свободы или только для себя?
– Не считай нас узурпаторами, мальчик с бородкой.
– Для всех! Сво-боды?! Очнись, толпа! Подлецу свобода – подличай! Убийце свобода – убивай! Для всех!.. Или вы, свободомыслящие олухи, считаете, что человечество сплошь состоит из безобидных овечек?
В пренебрежении к слушателям и состояла обычно ораторская сила Игоря Проухова. Расправив плечи, с темным подбородком и светлым челом, он принялся сокрушать:
– Знаете ли вы, невежды, что даже мыши, убогие создания, собираясь в кучу, устанавливают порядок: одни подчиняют, другие подчиняются? И мыши, и обезьяны-братья, и мы, человеки! Се ля ви! В жизни ты должен или подчинять, или подчиняться! Или – или! Середины нет и быть не может!
– Ты, конечно, хочешь подчинять? – спросил Генка.
Повторялось то, что тысячу раз происходило в стенах школы, – Игорь Проухов вещал, Генка Голиков выступал против. У философа из десятого «А» был только один постоянный оппонент.
– Кон-нечно, – с величавой снисходительностью согласился Игорь. – Подчи-нять.
– Тогда что ж ты возишься с кисточками, Гай Юлий Цезарь? Брось их, вооружись чем потяжелее. Чтоб видели и боялись – можешь проломить голову.
– Ха! Слышишь, народ? – Нос Игоря порозовел от удовольствия. – Все ли здесь такие простаки, что считают – кисть художника легка, кистень тяжелее, а еще тяжелее пушка, танк, эскадрилья бомбардировщиков, начиненных водородными бомбами? Заблуждение обывателя!
– Виват Цезарю с палитрой вместо щита!
– Да, да, дорогие обыватели, вам угрожает Цезарь с палитрой. Он завоюет вас… Нет, не пугайтесь, он, этот Цезарь, не станет пробивать ваши качественные черепа и в клочья вас рвать атомными бомбами тоже не станет. Забытый вами, презираемый вами до поры до времени, он где-нибудь на мансарде будет мазать кисточкой по холсту. И сквозь ваши монолитные черепа проникнет созданная им многокрасочная отрава: вы станете радоваться тому, что радует нового Цезаря, ненавидеть то, что он ненавидит, послушно любить, послушно негодовать, окажетесь в полной его власти…
– А ежели этого не случится? Ежели черепа обывателей окажутся непроницаемыми? Или такого быть не может?
– Может, – согласился Игорь спокойно и важно.
– И что тогда?
– Тогда произойдет в мире маленькое событие, совсем пустячное, – сдохнет под забором некий Игорь Проухов, не сумевший стать великим Цезарем.
– Вот это я как-то себе отчетливей представляю.
Игорь вознес над головой стакан.
– Я, бывший раб школы номер три, пью сейчас за власть над другими! Желаю вам всем властвовать кто как сможет!
Священнодейственно навесив над стаканом нос, Игорь сделал опустошающий глоток, царственным жестом не глядя отвел стакан к Сократу, уже держащему наготове бутылку, дождался, пока тот дольет, протянул Генке:
– Старик, ты оттолкнешь протянутую руку?
Генка принял стакан и задумался. Невнятная улыбка блуждала у него на лице. Наконец он тряхнул волосами:
– За власть?.. Пусть так! Но извини, Цезарь, я выпью не с тобой.
И он шагнул к Натке.
– Пью за власть! Да! За власть над собой!.. – Генка выпил до дна, с минуту глядел повлажневшими глазами на невозмутимую Натку. – Сократ! Наполни!
Но Сократ скупенько плеснул до половины – девчонке хватит, бутылка-то не бездонная.
– Ну, Натка… – попросил Генка. – Ну!
Натка поднялась, распрямилась, переняла стакан – в движениях картинная лень. Лицо ее было в тени, освещены только лоб да яркие брови. И рука – оголенная до плеча, бескостно-белая, струящаяся, лишь бледные пальцы, обнимающие черный сгусток вина в стакане, в беспокойном изломе.
– Натка, ну!
Игорь Проухов наблюдал со стороны с едва сочащейся снисходительно-мудрой улыбкой.
Натка пошевелилась, со строгой пеленой в потемневших глазах, подняла стакан:
– Когда-нибудь, Гена, за власть… Не за свою. За чью-то… над собой… Сейчас рано. Сейчас… – Вскинутый стакан в белой струящейся руке. – За свободу!

И запрокинула голову, показав на мгновение ослепительно колыхнувшееся горло.
Генка сразу поскучнел, а в мудрой улыбке Игоря появился новый оттеночек – столь же снисходительное сочувствие.

