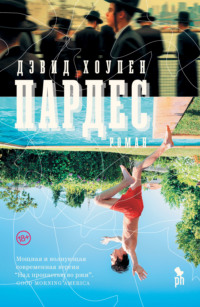
Пардес
Мы припарковались в дальнем конце стоянки, возле Оливера. Он сидел на капоте своего желтого джипа (подарок родителей на восемнадцатилетие, чем Оливер беззастенчиво хвастался) и на полной громкости слушал Джея-Зи.
– Уже дунул с утреца? – весело спросил Ноах.
– Я делаю что могу, чтобы как-то продержаться, – ханжески ответил Оливер.
– День еще даже не начался.
– Вот-вот, – Оливер кивал в такт голосу рэпера, – в этом-то и проблема.
С пассажирского сиденья выбрался Эван, закашлялся. Взгляд у него был стеклянный, как и у Оливера. Я стиснул зубы. В который раз прокрутил в памяти сцену вечеринки, гадая, имелось ли у Софии основание так говорить или это смехотворное обвинение, как упорно утверждал Ноах. Может, я просто перепил. В конце концов, я впервые напился и вряд ли сумел бы определить, что именно довело меня до такого состояния: то ли я смешал слишком много напитков, то ли мне подлили в коктейль неизвестное вещество. Я отмахивался от этих мыслей, убеждал себя в том, что даже если София права, произошло нелепое недоразумение. Почувствовав мою растерянность, Ноах повел меня прочь от Эвана, к академии.
Я уже видел школу, но только сейчас осознал, какая она на самом деле шикарная. Ноах с ухмылкой наблюдал, как я любуюсь аккуратно подстриженными газонами, бескрайними игровыми полями, уходящими к горизонту, самим зданием, напоминавшим гигантский круизный лайнер. В вестибюле на доске объявлений висела растяжка с надписью “ВЫПУСКНИКИ ЛИГИ ПЛЮЩА”, а под ней фотографии улыбающихся студентов в обнимку с одной и той же женщиной – невысокой, стройной, с суровым взглядом. Ноах потащил меня в библиотеку, и мы встали в очередь за учебниками.
– Посмотрим. – Ноах выхватил у меня мое расписание. – Углубленный курс по английской литературе. Углубленный курс по биологии, ну это явно не ко мне. Талмуд, Танах то же самое. Начальный курс иврита? Ты разве не из Старого Света?
Я пожал плечами:
– Там говорят на идише. В моей ешиве недолюбливали современный иврит.
– Ну разумеется.
Я указал на курс в самом низу моего расписания:
– А это что такое?
– ЕврИсФил, – ответил Ноах. – Еврейская история и философия. Традиция двенадцатого класса. Ведет занятия мистер Гарольд – классный дядька, суперзнающий, предмет свой любит, но ему уже лет двадцать как пора на пенсию. Так что на уроках у него народ на голове стоит.
Тут нас заметил Амир и пробрался к нам. Сразу же затребовал наши расписания и, нахмурясь, принялся изучать мое. Беспокоиться ему было не о чем, я считал себя умным и, бесспорно, начитанным, но понимал: из-за того, как нас учили в “Тора Тмима”, пробелы в знаниях мне уже не наверстать, хотя это и к лучшему – до Амира мне все равно не дотянуться, я на световые годы отстаю от любого среднего ученика. Амир и сам быстро догадался.
– Ты никогда не учил геометрию? – с нескрываемым облегчением спросил он.
Мы получили книги – тяжелые, грозные книги, внушившие мне одновременно восхищение и тревогу, – убрали их в свои шкафчики, после чего нас отправили фотографироваться. Я напряженно улыбался, чувствуя на себе взгляды, мысленно аплодировал своему решению не надевать сегодня зеленую рубашку, наблюдал, как Ноах и Оливер по очереди занимают место перед камерой. (“Посмотри на себя, Ари! – воскликнула Ребекка, разглядывая мой снимок на фотоаппарате; к моему смущению, ее крик привлек внимание – наверное, она этого и добивалась. – Ты такой фотогеничный, кто бы мог подумать! Ямочки на щеках! Ямочка на подбородке! А какая улыбка! Да ты у нас неограненный алмаз!”) Потом всю нашу параллель – сто четыре ученика, в три с лишним раза больше моего класса в Бруклине – повели в актовый зал, огромный, величественный, с бархатными креслами и жужжащими лампами; там уже собрались остальные учащиеся. Девочек усадили справа, мальчиков слева, хотя мехицу[90] между нами не ставили. Я последовал за Ноахом на задний ряд.
На сцене стоял осанистый мужчина с редкой бородой, аккуратно расчесанными седыми волосами и суровым, но добрым лицом. Невысокий, очень худой, он вытирал нос разноцветным платком – красно-бело-сине-зелено-желто-черным, в цветах южноафриканского флага.
– Это рабби Фельдман, – сказал мне Ноах. – Заведующий кафедрой иудаики. Он из Кейптауна. Малость строгий, но в целом хороший мужик.
Рабби Фельдман дождался, пока все рассядутся и замолчат. Передний ряд подозрительно пустовал.
– Харрис, – выкрикнул он с резким акцентом; для такого тщедушного телосложения голос у него был на диво выразительный, – пожалуйста, собери свой ряд и переходите вперед.
Я тут же встал (просьба показалась мне невинной) и увидел, что остальные поднимаются ворча и неохотно. Оливер, сидящий слева от Ноаха, отпустил еле слышное замечание.
Рабби Фельдман поднял брови:
– Прошу прощения, Беллоу?
– Извините меня, рабби, – ответил Оливер. – Пожалуйста, не думайте, что я не скучал по вам.
По нашему ряду пробежали смешки. Рабби Фельдман, пряча усмешку, вежливо попросил Оливера замолчать.
Мы перебрались на первый ряд и сели в считаных футах от рабби Фельдмана. Я заметил, что Джемма и прочие девушки перешептываются, покосился на сияющую, оживленную Софию, сидящую между Ребеккой и Реми.
Рабби Фельдман откашлялся и вновь улыбнулся.
– Добро пожаловать. Рад видеть, что вы полны энтузиазма. – Он насмешливо взглянул на Оливера, который нахально показал ему большие пальцы. – Школа с нетерпением ждет начала нового учебного года, и мы уверены, – он небрежно обвел рукой зал, – что у нас выдающийся выпускной класс. Мы счастливы, что у нас такие ученики; совместными усилиями мы добьемся успеха в этом году.
Распахнулась задняя дверь. Вызывающе насвистывая, вошел Эван. Все дружно обернулись к нему. Кое-кто из младших даже вскочил на ноги, словно приветствуя раввина. Я заметил, что София отвернулась и с блуждающей улыбкой посмотрела на Ребекку.
– Вот так сюрприз. – Рабби Фельдман вздохнул в микрофон. – Мистер Старк, как хорошо, что вы к нам присоединились.
Эван подчеркнуто неторопливо прошел по ряду, не обращая внимания на сотни любопытных глаз.
– Я бы хотел объявить во всеуслышание, рабби, что лето явно пошло вам на пользу, – ответил Эван. – Вы стали такой… поджарый. Вам помогла палеодиета, о которой я говорил?
Рабби Фельдман выдержал его взгляд и, к моему удивлению, фыркнул от смеха.
– Вы не думайте, я еще долго буду казнить себя за то, что рассмеялся. А девятиклассникам советую не подражать… скажем так, отваге этого молодого человека. Он подает плохой пример. Его последователи так легко не отделаются.
В зале засмеялись. Эван же, из-за которого и поднялась суматоха, уселся позади нас на втором ряду.
– Черт подери, – Ноах повернулся к Эвану, – этому все с рук сходит.
– На чем я остановился? Ах да, раз уж вы все такие приличные молодые люди, совсем взрослые, – рабби Фельдман закатил глаза, – мы рассчитываем, что вы будете вести себя хорошо и относиться к школе с тем же уважением, какого ждете к себе. Прошлогодние выпускники были замечательные…
– Жалкие идиоты, – прошептал Оливер Ноаху. – Они хоть что-нибудь отмочили?
– …и мы ожидаем такой же ответственности и содействия от наших будущих выпускников. – Он продолжал в том же духе: чтобы учебный год прошел гладко, между учениками и преподавателями должно быть взаимное уважение, они должны вместе развиваться, обогащаться познаниями и в светских науках, и в иудаике. Закончив, он попросил нас встать и поприветствовать рабби Блума, нашего директора.
– Наш главный, – прошептал Ноах. – Он тебе понравится. Самый умный человек на свете.
Директор был высокий, худой, сутулый, лет шестидесяти, не больше. Лицом смахивал на эльфа, волосы у него были седые, стального оттенка, взгляд пристальный; он обвел взглядом зал.
– Леди и джентльмены, – негромко и вдумчиво произнес он, словно обращался лично к каждому, – девятиклассники и двенадцатиклассники, десятиклассники и одиннадцатиклассники, добро пожаловать домой.
– Он по-прежнему в восторге от самого себя, – с улыбкой пробормотал Эван.
Ноах кивнул на Эвана.
– Они с Блумом и ненавидят, и любят друг друга, – пояснил Ноах. – Вообще, если честно, скорее любят. Сам увидишь.
– Мне очень приятно быть директором вашей школы, которая лидирует среди современных ортодоксальных школ нашей страны. Помню, лет двадцать пять назад, когда мы только-только организовали это учебное заведение, я представлял себе академию, в которой ученики в самом глубоком смысле будут совершенствовать своих наставников. Аристотель говорил: корень ученья горек, а плоды его сладки. – Он примолк, обвел взглядом слушателей. – При всем уважении к морену[91] Аристотелю, я не согласен с этим утверждением и считаю, что образование должно быть совершенным во всем – и по сути, и по духу. Уверен, вы согласитесь: между вами нет горьких корней.
Мой ряд пропустил его слова мимо ушей. Все слушали, как Эван шепотом рассказывает о своем головокружительном лете: девушки из маленьких испанских городков, купание в реке Тахо, увлекательные походы в Кантабрийские горы, сорокалетняя женщина, рядом с которой он как-то проснулся на берегу реки. Меня же слова рабби Блума заворожили. Он говорил много, с неистовой скоростью, сплетая религиозное с мирским; вспомнил Джона Адамса[92], который утверждал, что евреи привили миру основы морали, рассуждал о талмудическом законе как интеллектуальном предшественнике теории государства Локка[93], о разнице между марксизмом – он порабощает – и религией – она открывает возможности. Каждое его слово разительно отличалось от ломаного английского моих бывших раввинов. Вот оно, подумал я, тот шанс, ради которого я уехал из Боро-Парка.
– Огонь могуществен, – сказал он под конец. – Но он бессилен повлиять на то, что неспособно воспламениться. Попытайтесь поджечь стекло, кирпич, бетон – ничего не выйдет. – Он оглядел нас, одного за другим. Держался он грозно; в нем читалась не холодность, а сила разума. – И если вы, ученики, окажетесь невосприимчивы к вдохновению, никакая идея не проникнет в вашу душу, даже самая зажигательная. – С этим нас отпустили, однако, едва мы направились к выходу, рабби Блум снова взял микрофон: – Мистер Старк, мистер Беллоу, мистер Харрис и мистер Самсон, на два слова.
– Ну вот, снова-здорово, – произнес Ноах. – Не рановато ли?
Оливер похлопал меня по спине:
– Сложи о нас песню, чувак.
Я направился к двери, они поднялись на сцену. Я оглянулся на них: они стояли кружком и о чем-то шептались, а рабби Блум молча любовался ими. Меня на миг обожгла необъяснимая зависть, и я вышел из актового зала.
* * *Понедельник, наш первый учебный день, выдался погожим, все было залито солнцем, пальмы покачивались в унисон, небо блистало лазурью. Нервничал я еще больше, чем в пятницу. Все выходные я раздумывал над тем, что случилось за этот месяц: я влился в чуждую для меня компанию, обманул родителей, забыл утром наложить тфилин, напился до беспамятства, грубо нарушил шомер негия и, скорее всего, мне в коктейль подмешали наркотик. К концу шаббата я все тщательно обдумал и решил абстрагироваться от всего происшедшего, восстановить равновесие. Я действительно хотел начать новую жизнь, но не такую.
– Не может быть, – едва мы вошли в школу, сказал Ноах, взглянув на объявление на доске.
– Что?
– Обхохочешься. – Он провел пальцем по прикнопленному к доске листу бумаги. – Смотри, это список миньяним. Вот обычный миньян, на который соберется процентов восемьдесят пять всей школы, вот миньян для сефардов, наших средиземноморских братьев. А вот, – он ткнул пальцем в мое имя в списке, – последний по порядку, но не по значению, так называемый вразумительный миньян, для нас.
– Не понял.
– Скажем так: проще отделить хороших от гнилых. Он задуман как воспитательный, исправительная молитва, миньян 101.
Я кивнул. Я сообразил, к чему он клонит.
– Самое забавное, что они засунули единственного в школе бруклинского хасида в миньян для отступников.
Мне это не показалось забавным. Я хотел ответить, что меня определили к ним не по ошибке, а потому что я общаюсь с ним и его друзьями.
– Я не хасид.
– Ладно. Полухасид.
Я покачал головой.
– Или как это называется. Как ты сам себя определяешь?
Я пожал плечами:
– Фрум. Еврей. Не знаю.
– Не обижайся, – он подавил ухмылку, – это же хорошо.
– И что тут хорошего?
– Прикольно, мы все вместе. Ну, кроме Амира, конечно, но этого следовало ожидать.
– Надо будет попросить, – ответил я, – чтобы меня перевели в обычный миньян.
– Забей. Как только они поймут, что натворили, мигом отправят тебя к неинфицированным. Наши раввины тебя точно полюбят.
Миньян, который любовно прозвали “миньян икс”, проходил в научной лаборатории на втором этаже; как я и опасался, он оказался сущей пародией. Собралось пятнадцать человек, включая Донни, здоровяка, который на вечеринке у Оливера сломал стол для пиво-понга, и курносого поджарого аргентинца с вечеринки у Ниман (“Гэбриел”, – представился он и сердечно пожал мне руку). Оливер с Эваном не удосужились прийти; Ноах сказал, они обычно вместо молитвы ходят завтракать в один из соседних дайнеров – разумеется, некошерный. В передней части комнаты сидел раввин, ведущий миньян, и рассеянно играл в тетрис на телефоне.
– Рабби, – Ноах подвел меня к нему, – это Дрю Иден, наш новенький.
Я еле удержался от замечания, что на самом деле меня зовут не так, и пожал руку раввину.
– Рабби Шварц, – любезно сказал он, на миг приостановив игру. Он был средних лет, невысокий, сухощавый.
– У него то ли девять, то ли десять детей, – прошептал мне Ноах, когда мы отошли от стола, – поэтому у него всегда такой усталый вид.
В “Тора Тмима” даже приготовишек учили молиться почтительно – или хотя бы не разговаривать во время молитвы, чтобы не навлечь на себя гнев ребе. (Наши раввины – наследники европейского воспитания – могли и прикрикнуть на нас, и ударить линейкой; когда мы были в четвертом классе, рабби Херенштейн в наказание вышвырнул в окно любимые электронные часы Мордехая, ханукальный подарок. “Время летит”, – пожал плечами нераскаявшийся Мордехай.) К старшим классам мы так серьезно относились к молитве, что, подобно левитам, взлетавшим по ступеням Храма, наперегонки мчались к биме[94], чтобы удостоиться чести первым прочитать молитву. От этого же миньяна рабби Херенштейн разрыдался бы. Из портативных колонок гремела электронная музыка. Во время псукей де-зимра[95] начались громкие разговоры и усиливались до самой “Алейну”. Донни чеканил баскетбольный мяч, другие лихорадочно дочитывали заданное на лето, тфилин и на голову, и на руку не наложил почти никто, удовольствовавшись чем-то одним. Я сел за заднюю парту и робко обмотал руку тфилином, чувствуя на себе тяжелые взгляды, точно я нарушаю некий священный кодекс. Рабби Шварц поднял глаза от телефона, увидел, что я жду начала, покраснел, нерешительно кашлянул.
– Ребята, если не возражаете, давайте приступим.
Саму службу существенно отредактировали. Видимо, полная версия утренних молитв оказалась слишком утомительной и школа решила их сократить до пятнадцати минут максимум. Затем, в соответствии с “вразумительной” направленностью миньяна, рабби Шварц нехотя объяснил, почему важно молиться, – правда, его никто не слушал. (“Молитва – выражение благодарности, – сказал он, не обращая внимания на то, что на задней парте режутся в покер, – она дает нам возможность мысленно побеседовать с Владыкой вселенной”.) Когда он закончил, я негромко попросил его перевести меня в обычный миньян.
* * *День прошел как в тумане. На сдвоенном занятии по Талмуду рабби Шварц изо всех сил старался увлечь нас трактатом Брахот.
– Благословения, – бубнил он, – подтверждают то, что мы принимаем Бога как Творца вселенной. Но есть у них и вторая цель. Какая? – спросите вы. – (Никто не спрашивал.) Он откашлялся. – Они учат нас осмысленной благодарности и наслаждениям духовным.
Занятие по Танаху рабби Фельдман начал с обсуждения того, почему Рамбам так упорно подчеркивает слабости патриархов. (“Чтобы стать праведниками, – произнес он с диковинным южноафриканским выговором, – необходимо понять, что даже лучшие из нас всего лишь люди – такие же, как мы”.) Иврит у нас вела Мора Адар, семидесятилетняя израильтянка с выкрашенными в неестественно белый цвет волосами; пятьдесят минут ее урока оказались самыми скучными. (“Повторяйте за мной: «бейт сефер»”, – велела она с сильным акцентом. Оливер, торчавший в ее классе четвертый год подряд, выругался на иврите.)
Мора заметила мое недоумение.
– Ата хадаш?
Мой мозг медленно перевел: ты новенький?
– Кен.
– Эйх хаверит шелах?
– Э-э, ма?
– Эйх хаверит шелах?
– Это значит “Как твой иврит?”, – не выдержал кто-то из сидящих позади меня. – Господи Иисусе!
Мора Адар вздохнула и пробормотала что-то о скверных лингвистических способностях американцев.
К счастью, урок завершился, Оливер повел меня наверх, в безликую комнату на третьем этаже, мы вылезли в окно на балкон, где, рассевшись в шезлонгах, уже обедали Эван, Ноах и Амир.
Я неловко покосился на парковку, подозревая, что меня дурачат.
– Нам разве можно сюда?
– Еще бы, Иден, конечно, – ответил Эван. – И курить нам тоже никто не запрещает.
– Надо будет притащить тебе шезлонг, Ари, – сказал Ноах. – Эти нам принес Джио.
Я уселся на пол, спиной к перилам, и развернул сэндвич.
– Сначала надо его посвятить, – пробормотал Оливер, набив рот суши; он заказал доставку на адрес администрации, хотя, насколько я понял, ему не раз говорили, чтобы он не смел так делать. – Берегись, Иден, последний лох не выжил.
Я посмотрел на суши Оливера и с отвращением перевел взгляд на свой скромный сэндвич с арахисовым маслом.
– Я готов рискнуть.
– А это еще что? – Амир вдруг подался к Эвану, который вытащил из рюкзака книгу в потертом кожаном переплете. – Неужели ты не дочитал то, что Хартман задала на лето?
Эван, не поднимая на него глаза, убрал книгу обратно и застегнул молнию.
– Это книга о Набокове.
– Да ладно? Дашь посмотреть перед английским?
Ноах рассмеялся.
– Расслабься, – ответил Эван, не глядя на Амира. – Тебе это будет неинтересно.
– А. – Амир плюхнулся на шезлонг. – Опять философия?
– Не парься.
– И как вы только читаете это дерьмо, – произнес Оливер и зубами разорвал пакетик с соевым соусом. Брызнула черная жидкость, едва не запачкав Амира. – Я бы повесился.
– Аккуратнее! – Амир оглядел рубашку, нет ли пятен. – В кои-то веки постарайся считаться с другими.
Ноах отпил большой глоток “Гаторейда”. Вытер с губ оранжевую жидкость.
– Рабби Блум до сих пор дает тебе книги?
– Иногда.
– Что это? – спросил я.
Эван поймал мой взгляд, улыбнулся.
– Вряд ли ты такое читал.
После обеда начался ЕврИсФил, и это, как предупреждал Ноах, оказался какой-то цирк. Мистеру Гарольду было под девяносто; ростом он был шесть футов и шесть дюймов, невероятно добрый, с редкими пучками волос на макушке в старческой гречке. Поговаривали, когда-то он играл за “Рочестер Ройалз”[96]. Предмет свой в том или ином виде преподавал уже лет сорок, и, как я быстро сообразил, никакой управы на класс у него не было. К ассирийскому плену испарился даже намек на порядок: Ноах спал, накинув на голову капюшон толстовки, на экране его лежащего на парте айфона шли “Во все тяжкие” (правда, негромко); Амир лениво записывал за учителем, успевая сражаться с Лили в крестики-нолики; на задней парте Эван заигрывал с Реми, и говорили они в полный голос, поскольку бедный мистер Гарольд не слышал, что творится в глубине класса. Я почти весь урок просидел в оцепенении, изнывая от скуки, и развлекался тем, что поглядывал на Софию, которая грустно шепталась с Ребеккой и поглядывала на Эвана с Реми.
На геометрии я целый час тупо таращился на непонятные графики, которые начертил коренастый и неуклюжий доктор Портер.
– Неужели никто из вас не знает, чем угол отличается от луча? – Кажется, прежде он работал в министерстве энергетики. И наше угрюмое молчание его удивляло. – Вообще никто?
Николь подняла руку:
– Разве это не одно и то же?
Ее подружки захихикали.
Когда Николь заговорила, сидящий за мной Оливер пнул мой стул. Я скривился, у меня вспыхнула шея. После той вечеринки мы с Николь толком не общались. Я ожидал (по крайней мере, первое время), что мы обсудим случившееся, но в единственную нашу встречу Николь, не смущаясь, ограничилась кратким “привет”. Я не знал, как принято поступать в подобных случаях, – неужели в порядке вещей, гадал я, после близости притворяться, будто ничего не было? – и обратился к Ноаху, а тот посоветовал мне отнестись к решению Николь с уважением и не стремиться сократить дистанцию.
– Вообще-то нет, – слабо улыбнулся доктор Портер. Глаза у него слезились, казалось, он вот-вот расплачется. – Луч – это линия, которая начинается в данной точке и бесконечно тянется в заданном направлении. Два луча, исходящие из одной точки, образуют угол…
После математики – у меня еще кружилась голова от всех этих вершин и параллельных плоскостей – ко мне подошел крепкий, опрятно одетый парень.
– Аарон Дэвис, – объявил он и протянул руку. Я узнал его, это был тот нахал с урока иудаики, который громко отвечал на вопросы, чересчур оживленно жестикулируя. – Вот решил подойти познакомиться.
– Ари Иден, – благодарно ответил я. В школе меня сторонились – я либо общался с Ноахом и компанией, и тогда от меня держались подальше, либо был один, и тогда на меня смотрели как на изгоя.
– Мы с тобой, я вижу, ходим на одни и те же занятия. – Одет он был слишком нарядно – галстук, темно-синие брюки в тонкую полоску; очки были ему велики, то и дело сползали с переносицы. – Как тебе первый день?
Я ответил, что хорошо.
– Отлично. Ты явно вписался. Ты из Норуолка?
– Что?
– Или из Уотербери? Ты вроде откуда-то из Коннектикута.
– Из Бруклина.
– Оригинальненько.
– В смысле? Я не сказал бы…
– Мне на физику пора, – перебил он, поправляя галстук. – Рад познакомиться, это большая честь для меня. Помнишь, что говорил Гамильтон[97] о священном удовольствии новой дружбы?
Едва он ушел, сунув руки в карманы и насвистывая мотив времен Гражданской войны, как из-за шкафчика показался Оливер.
– Правда, противный?
– Не знаю. По-моему, милый.
– Милый? Высокомерный всезнайка, одержимый историками и Гарвардом, как все в его семье.
– А. Ну если в этом смысле…
– Не сомневаюсь, он был с тобой мил. Наверное, хочет, чтобы ты проголосовал за него.
– Проголосовал?
– На выборах президента школы. Скоро начнется избирательная кампания, а Дэвис прирожденный политик. Эван его терпеть не может, – буднично сообщил Оливер. – Не говоря уж о том, что Дэвис с Амиром постоянно соперничают.
– Из-за чего?
– Из-за оценок, наград, колледжей, кто самый большой заучка и зануда.
– А Эван?
– Мог бы, если б хотел. Но не хочет.
– Почему?
Оливер пожал плечами:
– Эвану все равно.
Биологию у нас вела самая необычная учительница, доктор Урсула Флауэрс.
– Да-да, имя неудачное, сама знаю, привыкайте к этой мысли, и начнем урок, – отрезала она, выводя свое имя на доске. Седая, мускулистая, из-под воротника рубашки виднеется татуировка – маленький, скверно прорисованный микроскоп. – А как иначе, если твои родители бестолковые гавайские хиппи с нездоровым пристрастием к Диснею? – И закашлялась, точно по сигналу.
– Вам плохо? – наконец спросил кто-то.
– Тип-топ, – просипела она, согнувшись пополам, и, порывшись в ящике стола, достала бумажные салфетки. – Привыкайте, – повторила она, лихорадочно стараясь отдышаться. – Хотите совет? Не курите одну за другой.
Народу на урок пришло на удивление мало, всего семеро двенадцатиклассников, остальные были кто на физике, кто на экологии (и то и другое – углубленный курс). Сам не знаю, как я попал в этот класс. В заявлении в “Коль Нешама” я не выразил ни малейшего интереса к биологии. Впрочем, увидев в первом ряду Софию, я решил, что буду ходить.
– Ари. – Она вскинула брови. – Какой приятный сюрприз.
Я рискнул усесться рядом с ней, и от собственной смелости у меня на миг закружилась голова.
– Почему ты всегда так удивляешься, когда видишь меня? – спросил я.
София окинула меня взглядом, сложила губы в подобие изумленной снисходительной улыбки.
– Не думала, что ты интересуешься наукой.
– Я и не интересуюсь, – ответил я, гадая, не обидеться ли на ее слова.
– Готовишься в медицинский?
– Не-а.
– Значит, преследуешь меня?
– Хватит заигрывать, – откашлявшись наконец, рявкнула доктор Флауэрс.
Битый час нас мучили ван-дер-ваальсовым взаимодействием и ненаправленными ионными связями. Следующим уроком был английский. Едва прозвенел звонок, в класс вошла миссис Хартман, высокая, худая, строгая, в черной одежде разных оттенков, и в наступившей тишине написала на доске – я в жизни не видел такого роскошного почерка – одно-единственное слово: “Трагедия”.

