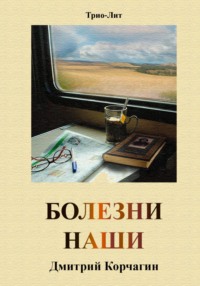
Болезни наши

Дмитрий Корчагин
Болезни наши
Греческая фамилия
Когда 17-го мая 1918-го года грузинский генерал Мазниев приказал развернуть батарею средних орудий в предместье Сухума, мать портового грузчика Саввы Гурыбы второй только раз за эту весну выпустила на улицу двух огромных пятнистых свиней. Когда абхазская милиция отчаянно пыталась организовать защиту города, на извозчичьих пролётках свозила к окраине плохо вооружённых бойцов, по всему городу искала для них патроны хотя бы на два – три часа боя, свиньи возлежали в луже и с равнодушием смотрели на стаю собак, собравшуюся в тени густых зарослей грецкого ореха. Таким вот равнодушным, сытым взглядом проводили они и ещё одну пролётку, с которой на всём скаку спрыгнул молодой парень с охотничьим ружьём в руках.
Савва успел предупредить мать о приближающемся бое, но не успел на помощь к товарищам. Из-за ярко- и вечнозелёной рощи, совсем рядом послышались разрывы снарядов. Потом крики атакующих и крики обороняющихся, и беспорядочная пальба. Потом ещё пара залпов и стало понятно, что сообщение о движении грузинских частей на Сухум пришло слишком поздно. Грузинских меньшевиков в этот раз было больше, чем сторонников советской власти в Абхазии. И генерал Мазниев приказал перенацелить орудия на ближайшее к месту боя селение, на всякий случай. И минут через десять по-русски скомандовал: «Пли!»
Ударом первого снаряда в клочья разорвало самую толстую свинью. Потом уличные псы будут лакомиться её кусками, а пока в их стаю с диким визгом врезалась вторая обезумевшая от взрыва свинья и насмерть затоптала уже раненую осколком и потому не столь проворную собаку.
Вечером Савва, спрятавшийся у греческих контрабандистов от рыскавших повсюду грузинских патрулей, полностью доверился самому авторитетному понтийцу Софокласу Митронаки. И этой же ночью греки морем перевезли Савву подальше от города, в рыбацкое поселение беженцев из-за Понта Эвксинского. Здесь ему состряпали удостоверение переселенца, пострадавшего от турок. Бланк бумаги был настоящим, ещё царского образца, и гарантировал бы полную безопасность, если бы Савва говорил по-гречески.
– А что у тебя – Митронаки хлопнул ладонью себя по лбу, – что за шрам через весь лоб?
– Год назад упал с мешком мамалыги с трёхсаженного пирса. Головой прямо на камни. Чудом шею не сломал.
– Вот и отлично, – успокоился видавший виды грек. – Скажем грузинам, если спросят, что это от турецкого приклада, который и сделал тебя глухим. С этой минуты разговаривай только со мной и с тем парнишкой, что привёз тебя сюда. И только ночью, чтобы никто не увидел, как шевелятся твои губы. Для остальных ты глухонемой.
Митронаки любовался в свете костра фальшивым удостоверением и хвалил своих подчинённых подельников:
– Ай, молодцы. Языков двенадцать уже выучили! Такая наша жизнь.
И, как всегда, пугающе улыбался правой гуимпленовской стороной своего лица. Чуть позже он спросил:
– Фамилию сам выбирал? Пулиопулос. Какая-то не наша, не понтийская.
Савва кивнул.
– Это фамилия греческого коммуниста, руководителя ячейки коминтерна в Элладе, пламенного последователя товарища Троцкого.
– Смотри, – с простодушной иронией заметил Софоклас, – не сыграла бы она с тобой злую шутку.
– Не думаю, что грузины знают, кто такой Пулиопулос.
Уходя, Митронаки сообщил:
– Плохие новости из Сухума. Грузины всю вашу милицию и пленных, взятых в бою, и так кого поймали, всех поставили к стенке. Твоя мать в заложниках. Будь осторожнее. Не забывай, что ты глухонемой.
Всего только месяц продержалась советская власть в Абхазии, и поэтому красная милиция и контрабандисты относились друг к другу пока ещё с взаимной симпатией. Близко-классовый элемент. До поздней осени Савва прожил среди греков, играя роль местного глухонемого дурачка. Разговаривать приходилось редко и только ночью и только с Гестасом, парнишкой чуть моложе его самого, племянником Митронаки.
– Мне пятнадцать лет было, – рассказывал тот Савве в одну из сентябрьских ночей, – когда я пронёс в трюм баржи, в которую турки весь наш посёлок загнали, сломанное лезвие опасной бритвы. Хотели пустить нас на дно; почти пять сотен живых душ. Только баржу им жалко стало. На побережье ещё три селения, а баржа осталась одна.
Савве от этого рассказа показалось, что он проглотил кусок льда. Турки выводили из трюма по десять крепко связанных пленников, забивали их палками и сталкивали в море. Тем временем в чреве баржи Гестас сказал своему дядьке, что перед тем, как пожилой турок связал его, он успел сунуть подмышку обломок лезвия. Поэтому и кровь ручьём. Зубами рвали другие обречённые верёвки Гестаса. Последний шанс. Когда путы ослабли и лезвие, наконец, звякнуло о металлическое днище, на палубе стихли отчаянные вопли уже четвёртой группы. Софоклас босыми ногами в безнадёжной тьме насилу нащупал обломок бритвы.
– Всем стоять на месте! Не мешайте мне, не двигайтесь, если хотите жить! – кричал он на соплеменников, потом обратился к Гестасу, – Я долго не смогу говорить, пока не перережу твою верёвку окончательно. Терпи и стой, как вкопанный.
Сжав зубами лезвие, Софоклас полоснул им вместо верёвки руку племянника, но тот и виду не подал. Турки забили ещё десять стариков и старух, пока Гестас не вынул из окровавленного рта Митронаки спасительное лезвие. Потом, пока одних освобождали, других, не глядя им в лицо, выпихивали на палубу под звёзды. Мольбы, проклятия, угрозы. Отчаянье, надежда и равнодушный старый, как на турецком флаге, полумесяц. Когда османы увлеклись избиением очередной беззащитной партии, из трюма разом вывалило около двухсот человек с голыми руками, которые замечали, что их прошили две турецкие пули, только выдавив два турецких глаза. И только после этого умирали со счастливой улыбкой. Даже дети и женщины в безумном порыве гонялись по палубе за горе-солдатами, забывшими от ужаса, как перезаряжается винтовка. Кого догоняли, без милости рвали буквально в куски. В море, среди обезображенных утопленников, у команды этой баржи шансов выжить было больше, чем оставаясь на ней. И несколько турок, повинуясь желанию жить, охотно бросились в отражение звёзд в чёрных волнах Чёрного моря. Когда взошло солнце, на барже оставалось сто двадцать шесть живых греков разного возраста. Когда вечером баржу взяла на буксир русская канонерская лодка, – сто одиннадцать.
Пять месяцев прожил Савва среди этих людей, и это время не прошло даром. Гестас был удивлён, когда в конце ноября Савва достаточно складно ответил ему по-гречески. Наслушался. Позднее, когда он будет пробираться во Владикавказ, удостоверение личности беженца и несколько греческих предложений, которыми, заикаясь, он объяснится с патрулём, спасут ему жизнь.
Так в рядах Красной Армии в 1919-м году окажется боец Савва Пулиопулос, не отрекшийся от своей новой фамилии. Всё равно, кроме фальшивой бумаги, подтверждающей статус беженца, других документов у него не было. Домой он вернётся в 1921-м, как освободитель. Мать не найдёт. После демобилизации будет работать садовником в ботаническом саду, постепенно забывая ужасы гражданской войны. Женится на местной, не из клана контрабандистов, гречанке Лилии, тоже сотруднице ботанического сада. Сына они назовут Акацием. Спустя пятнадцать лет эта прекрасная советская семья сядет однажды на ночной поезд и уедет в Оренбург. Фамилия всё-таки чуть не сыграла с ними злую шутку. Греческий коммунист Панделис Пулиопулос, чью фамилию с такой гордостью носил Савва, окажется троцкистом-радикалом. Причём таким ярым, что сам Троцкий от него отвернётся. Волей-неволей занервничаешь. И, пытаясь избежать объяснений с местными чекистами, которые хорошо разбирались в национальном и в других политических вопросах, Савва решил уехать.
В Оренбурге сначала Лилия устроилась работать в недавно открытый сельскохозяйственный институт, в котором не хватало кадров, а потом и Савва. После войны там будет учиться и их сын. Это он в начале шестидесятых напишет толковую, но мало кем из научного сообщества замеченную книгу «Озеленение целинных городов». Сначала партработники её вроде бы двигали, обещали большой тираж, только вдруг случилась отставка Хрущева, и актуальность книги перестала быть очевидной. Защитив кандидатскую диссертацию, Акаций Саввич с семьёй перебрался в Злакоград, где ещё в те времена планировалось создать большой научно-образовательный центр для окормления всего целинного региона агроспециалистами. Жизнь текла без потрясений, без резких поворотов, не то, что у его отца. Акаций Саввич преподавал в филиале оренбургского института и в местном совхоз-техникуме. Кроме этого, по просьбе городских властей энергично воплощал в жизнь свои же идеи об озеленении городов в лесостепной полосе. Поставив на учёт все имеющиеся деревья-старожилы, он активно занимался поиском возможных альтернатив, интродуцировал новые виды из других регионов СССР и даже с других континентов.
Заботами его собственными и его студентов, Злакоград год от года преображался. Разъерошенные, будто ураганом, хвойные кустарники из Канады и вертлявый китайский дуб стали предметами особой гордости для всех жителей города. Ко дню вручения паспорта его сыну, Акацию Акациевичу Пулиопулосу, приезжим сразу бросалась в глаза экзотичность зелёных насаждений на улицах Злакограда.
Озеленение целинных городов
Конец лета. Из жарких, пыльных запахов близкой осени двое молодых людей переместились в тихо звенящую прохладу полупустых коридоров нового здания местного ВУЗа. Ни преподаватели, ни студенты ещё не чувствовали себя здесь как дома. Видимо, поэтому всего за две недели до сентября их было так мало. Чужая ещё тарелка.
– Какой живописный тип!
Второму молодому человеку сказанное показалось слишком громким, и, наверное, поэтому он переспросил шёпотом:
– Который?
– Вон тот, с палочкой, – и Гена взглядом указал своему проводнику по университетскому кварталу на чуть старше средних лет мужчину с академической бородой с заметной проседью, в светлом грубом костюме, больше похожем на перешитую спецовку, и со старым, явно тяжёлым портфелем.
– Пу-ли-о-пу-лос, – отчеканил по слогам проводник. – И правда, занятный кадр. Ботаник. В смысле, преподаёт ботанику. Ретроград отчаянный. В дождливую погоду галоши носит. Зимой – каракулевую шапку-пирожок. Пишет только чернильными ручками. Такой курчатовской бороды я в двадцать первом веке ни у кого больше не видел. В середине нулевых весь научный совет три года уламывал его обзавестись мобильным телефоном. И только когда проректор пригрозил ему сокращением, он сдался.
– Грек?
Приподнятые плечи выразили неуверенность:
– Должно быть…
– Профессор?
– Нет, насколько я знаю. Не дают. У него очень сложные отношения и с коллегами, и с руководством, и, похоже, со всем человечеством. Причём испортил он их ещё при советской власти. Так говорят.
– А со студентами как?
– На биофаке первокурсники вешаются от его латыни. Привыкают к нему и начинают понимать, что ему надо, только к третьему курсу. Так он ещё курс логики ведёт! Уж не знаю, какая связь у логики с ботаникой, но факт. И тут уж всем достаётся: и математикам, и медикам, и психологам. Естественно, народ его недолюбливает.
– В свете сказанного интересно было бы с ним пообщаться. С такими неординарными внешностью и манерами и мысли должны быть неординарными. Какой-то старообрядец. Но сначала взглянуть бы на его печатные работы. Подскажешь, где найти?
Гена, – а проводника тоже звали Гена, – мечтательно закатил глаза и спросил:
– Сколько времени? На футбол не опоздаем?
– Ещё больше двух часов.
– Тогда давай зайдём в читальный зал. Это в соседнем корпусе.
И, вернувшись на свежий воздух, оба Гены почувствовали прощальный зной уходящего лета. Один из них был гостем Злакограда, выбравшимся на несколько дней из столицы набраться впечатлений о дальней провинции. У Гены в голове давно зародилась идея о цикле репортажей для своего Ютуб-канала об уездных городах. Планировал он в каждом городе детально поболтать с кем-нибудь из готовящихся к отплытию на другой берег Леты краеведов и с кем-нибудь из молодёжи. Всё просто. Сравнить их ценности, сравнить их чаяния и надежды, сравнить их мировоззрение. Гена очень надеялся, что каждый новый репортаж будет для него всё легче, а для подписчиков всё интересней, и всё точнее и объективнее будет вырисовывать общую картину жизни в российской глубинке. И если с первых репортажей удастся избежать «комов» и выйти на хороший рейтинг, то смело можно будет рассчитывать на президентский грант. Проект и правда был актуальным, никто не спорит.
Второй Гена был из местных и, надо сказать, личность в Злакограде известная многим не только в молодёжной среде. Он был гиперактивный, из тех, кому палец в рот не клади. Когда-то ему удалось преобразовать здешнюю ячейку движения «Наши» в надзорный общественный корпус за работой не только местных депутатов, но и областных. «Тебя закажут», – говорили ему знакомые. «Посмотрим», – отвечал он, улыбаясь. Фамилия у него была пугающая: Вясщезлов, а псевдоним, или, проще говоря, погоняло, под которым его знал весь город, – «Попович». Отец у Гены был священником. Кроме прочего, Гена был кандидат в мастера спорта и аспирант физкультурного факультета.
Не так давно он сам связался с Геной московским, комментируя его треки и стримы в Ютубе. Оценив мысли, язык, юмор и не в последнюю очередь настойчивость комментатора из южной Сибири, Гена-блогер признал его своим другом, охотно переписывался с ним и однажды посвятил Поповича в свои планы о новом цикле репортажей. Попович мгновенно предложил начать с Злакограда.
Когда рыжая девушка-библиотекарь поднялась из-за кафедры, стало понятно, чего она так стесняется. Москвич непроизвольно сглотнул слюну, а Гена Вясщезлов тихо прошептал ему:
– Никогда не упускаю случая увидеть её.
Москвич понимающе, но по-доброму, не сверкая глазами, улыбнулся. Скоро девушка вернулась с глазами долу и с совсем не толстой книгой в руках: А.А. Пулиопулос, «Озеленение городов».
– Вот, – сказала она тихим голосом, – всё, что есть в библиотеке из работ моего отца.
«Вот это да, – подумал блогер, -что же меня Гена не предупредил?» И, преодолев в себе ложное чувство приличия, Гена осмелился бросить взгляд на её бейджик: Лилия Пулиопулос.
– Весь дом завален его рукописями, – продолжала Лилия, – а до печати дошла только эта работа. 1980-й год. А почему она вас так интересует?
Блогер, имея неплохой актёрский опыт, смог искусно сосредоточить своё внимание только на её черносливовых глазах и достаточно спокойно заговорил:
– Меня интересует не столько книга, сколько её автор. Его внешность и то, что рассказал мне Гена…
– Лиля, я ничего выходящего за рамки не говорил, – поспешил подать голос Попович, – ничего не выдумывал…
– Это правда, – опять говорил москвич, – не беспокойтесь. И я решил, прежде чем представиться вашему отцу, узнать о нём что-нибудь как об учёном. Чтобы знать, с чего начинать разговор. А что может быть для этого лучше, чем его книги?
Лилия слушала с недоверием.
– Понимаете, я блогер, журналист, у меня свой канал…
– Я видела. Гена Руфулос.ры?
– Как приятно это слышать! Геннадий Рыжов по паспорту. К вашим услугам.
– Слишком много политики, – отрезала девушка так, что Попович еле слышно прыснул. А москвич подумал: «Ох!»
– Эта книжка вам не поможет; отец давно отстранился от этой темы. И даже вспоминать об этом не любит. Стыдится, наверно.
– Стыдится?
– Это семейное… Эта книжка, можно сказать, ремейк книги моего деда 1962-го года «Озеленение целинных городов». Понимаете?
– Кажется, да.
Блогер как-то слишком наглядно задумался. «Кажется, да» он сказал автоматически, переварить же всю информацию сразу не получалось. Попович начал скучать и ловить себя на мысли, что ревнует. Лиля на него совсем не смотрела.
– Как же мне быть? – Искренне пригорюнился москвич.
– Я подумаю.
И эта короткая фраза для одного Гены прозвучала как гром из самой чёрной тучи, а для другого – как сигнал арбитра к победному окончанию первого тайма.
Офсайд
В команде соседнего казахского города, такого же небольшого, как Злакоград, русских игроков было, конечно, меньше, чем в команде принимающей стороны, но на поле они были заметны. Счёт в самом начале международного товарищеского матча откроют наши, и страсти будут кипеть всю встречу. Попович и москвич расположились на тренерской скамейке, один как почётный тренер, второй – как почётный гость и как корреспондент. Его камера фиксировала как общаются футболисты перед началом игры, как спорят о чём-то судьи, как Попович наставляет нашего голкипера и защитников.
– Отличный у вас стадион! – восхитился блогер.
И, наверное, это были первые его слова после читального зала, на которые местный Гена отреагировал живо, искренне и с гордостью.
– Ты не поверишь, но я одного подрядчика, строившего этот стадион, чуть не посадил. Не сажают сейчас за такие мелочи, но из бизнеса я его вытолкал точно. И «Единая Россия» с него потом столько денег стрясла, что мы смогли ещё и детскую футбольную школу открыть.
Москвич и правда не мог поверить и сидел с открытым ртом. А Попович уже объяснял нападающим, как им надо разминаться.
– Выше, выше, – кричал он, – к самому подбородку! Хоп, хоп, хоп!
В перерыве Попович поднимался на трибуны к горе-фанатам. Выяснял: – почему такая тишина? Где «Оле-оле-оле»?
После нового свистка казахи неожиданно бросились в такую яростную атаку, что наши еле отбились. Попович, не отрывая глаз от зелёного поля, несколько раз произнёс себе в кулак, как в микрофон: «Рано». А ближе к середине второй половины матча Гена заметил краем глаза, как переглянулись боковой арбитр с Геной местным. Судья сразу же поднял свой жёлто-красный флажок, указывая на воображаемую им линию, и второй гол команды Злакограда не засчитали. Офсайд.
Попович закрыл лицо правой ладонью и опустил голову. Москвичу показалось, что он улыбается. «Вот это номер!» – подумал он. И Гене под языком почудился алюминиевый привкус, как от плохого рислинга. Он всегда так чувствовал тревогу. И в воздухе носился какой-то цементный запах, как от незрелого Шардоне. И камера чуть не выскользнула из его рук. Главное, вида не подавать.
Буквально за минуту до финального свистка казахи сравняли-таки счёт, и, как принято в лучших олимпийских традициях, победила дружба. Попович не скрывал самодовольной улыбки, блаженствовал. Потом были тёплые рукопожатия, обмен футболками, целая фотосессия с воспитанниками ДЮСШ и прочая показуха, так свойственная нашей провинции. Для полной феерии не хватало мера. Это про него, наверное, сказал Попович, озирая вип-трибунку:
– Козёл, обещал же быть!
Рыжов только теперь стал отмечать про себя, как по-арийски красив Попович. Какие точные движения, какие правильные слова, как послушны ему сейчас все, даже лицевые, мускулы, как выразительны. Не то, что пару часов назад в читальном зале университетской библиотеки. Вспомнив об этом, Гена опять почувствовал алюминиевый привкус, а в запахах воздуха – цементный нюанс.
– А когда Шардоне правильно вызревает, какие у него должны быть аромат и вкус? – спросил у Рыжова Иванников, центр-форвард казахской команды. Гена имел неосторожность перед началом товарищеского банкета оценить качество подаваемого на променад молдавского шардоне.
– Букет.
– То есть?
– Надо говорить «букет». И у шардоне он должен быть минеральным, с преобладанием оттенков мела.
Иванников с недоверием наморщил лоб, удивился и отошёл к своим.
– Ну, ну, ну, – улыбаясь, заговорил выросший из-под земли Попович, – не грузи наших гостей московскими баснями. Отличное вино после жаркого поединка. Сам проследил, чтоб охладили. В перерыве звонил сюда.
– Да я что-то вспомнил из прошлой жизни, – также улыбаясь, стал оправдываться Рыжов.
– Лиля когда обещала позвонить?
– Я просил завтра, ты же слышал. У меня не так много времени; я собирался во вторник с утренним поездом отбыть. Встречусь с её отцом и потом дома всё обмозгую. В общих чертах концепция сценария проста, только может так получиться, что Пулиопулос (так?) не сможет или не захочет ответить на мои вопросы. Знаешь, как стариков штормит иногда? Вдруг потащит не в ту степь.
– Я об этом тоже подумал, – радостно стал подпевать Попович, – а степь у нас кругом.
– Вот. И если так получится, подберём кого-нибудь ещё?
– Не вопрос! Я с краеведами отлично лажу. Они, правда, почти все из КПРФ, что делать, но с головой дружат. И очень переживают, в чьи руки они передадут эстафету.
– То, что надо, – продекларировал Рыжов не очень весело, – но это запасной вариант. Сначала Пулиопулос.
И Гена ещё раз услышал:
– Не вопрос!
Весь банкет Рыжов наблюдал за местным Геной. Когда все поднимали бокалы с каберне и саперави, он держал в руках бокал с минеральной водой. Когда он брезгливо отказался от кальяна, вслед за ним отказались все игроки команды Злакограда. Только жёны тех, у кого они были, наполняли часть банкетного холла фруктовым дымом. Когда официантка с подносом грязной посуды не могла найти фарватер для своего дрейфа, он галантно приходил на помощь и к ней.
«Он безупречен, – думал Рыжов, – как те криминальные авторитеты, на которых ему довелось насмотреться во время своей короткой ресторанной карьеры. – Интересно, после его помощи официантки не исчезают?» Это Гене вспомнился конец девяностых, когда в том ресторане, где он работал, после пары-тройки раз неоценённой помощи исчезла одна офсянка. Трудовая мигрантка из Белоруссии.
Потом потанцевали. Потом проводили гостей в отель.
– Разве прошёл бы вечер так душевно, если бы мы выиграли? – спросил Вясщезлов не то у себя самого, не то у Космоса.
«Однозначно» – подхватил эту мысль Рыжов. Естественно, молча. От усталости чувство тревоги притупилось, и в полудрёме он стал равнодушным к возможной опасности и даже ироничным, каким, собственно, и должен быть журналист.
«Ещё год-два, – думал Гена, – и пролезет он в местную думку. Дальше – больше. Областной министр спорта и молодёжной политики, или даже мер, или помощник губернатора, а дальше уж как повезёт. Может, и в Москве встретимся. Это сейчас он свой Скотопрогоньевск клянёт, а потом ещё бравировать своей малой родиной будет. Я, дескать, из народа, я из глубинки. Ну да, вполне возможно. Таких ценят».
К дому Вясщезловых подъехали заполночь.
– Ты что, задремал?
«Никаких гостиниц, будешь жить эти дни у меня!» – таким решительным был ответ одного Гены другому на вопрос, какой отель в Злакограде поприличней.
Отец Андрей
Странно, конечно, но отец Андрей, не стесняясь, вышел встретить сына и его гостя в очень простом штатском платье. Его самовязанный свитер на пуговицах и аккуратно подстриженная борода не производили впечатления, что он священнослужитель РПЦ. С первого взгляда Гена почувствовал с его стороны неподдельный интерес к себе или даже желание чем-то поделиться.
– Пап, – удивлённо заговорил Гена-местный, всходя на крыльцо, – ты чего не спишь? Ложился бы, второй час ночи.
Отец Андрей знал, что гость его сына приехал ненадолго и хотел с ним познакомиться, узнать его настоящее имя, то, под которым его весть Бог. Был у Рыжова или, как его называли в интернете, у Руфулуса.ры, цикл встреч с современными юродивыми, который официальная церковь не могла не заметить и не могла простить. Одно дело, когда ей незаслуженными упрёками колола глаза не очень образованная и очень обиженная на судьбу безликая интеллигенция, и совсем другое, когда эти упрёки выдают за правду набравшие последнее время в обществе вес щелкопёры, как сказали бы про них во времена Гоголя. Была у Гены в те дни и пара неожиданно неприятных телефонных бесед со знакомыми духовными лицами. Ведь Гена Рыжов в тех своих передачах был современным зрителем бессмысленных, как ему казалось, духовных поисков, скептичным, ироничным и порою ехидным. Эпитет «атеист» для выбранной им роли был бы слишком мягок. Своими деликатными остротами он жалил всех, с кем разговаривал на тему спасения. Но клиру доставалось несравненно больше, чем ищущим свой путь одиночкам. И в потоке его логичных, обличительных и зачастую красивых фраз слышалась даже некоторая симпатия к последним.
Желая познакомиться с Руфулусом.ры, отец Андрей питал надежду, что слова этого юноши и его поведение были всего лишь ролью. И правда, у молодых людей, ещё не выстрадавших своих убеждений, такое сплошь и рядом. Даже у интеллектуалов. Их мозг, испещрённый, исцарапанный убедительными научными граффити, с лёгкостью поглощает крамолу и с радостью делится ей. И публика ликует от того, что слышит то, что хочет слышать. И какой же оратор позволит себе отказаться от такого успеха, от такой роли? Даже если сердце ею гнушается. Потерпит.

