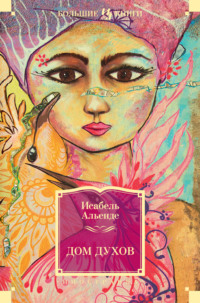
Дом духов
Способность Клары передвигать предметы, не трогая их, не прошла с началом менструации, как обещала Нянюшка, а, наоборот, усилилась настолько, что она научилась нажимать на клавиши рояля при закрытой крышке, хотя ей ни разу при всем желании не удалось переместить сам инструмент по гостиной. На эти чудачества уходила большая часть ее энергии и времени. Она умела угадывать карты в колоде; для своих братьев придумывала самые невероятные игры. Отец запретил ей читать будущее по картам, а особенно вызывать призраков и духов, – озорничая, они мешали остальным членам семьи и приводили в ужас прислугу. Со временем Нивея поняла, что чем больше будет запретов, чем больше будут пытаться напугать Клару, тем ярче проявятся ее странные особенности. Мать решила оставить Клару с ее спиритическими трюками, с ее забавами пифии, с ее упорным молчанием в покое, она просто любила младшую дочь, принимая такой, какая есть. Клара, прорицательница, росла как дерево в лесу; говорить она не желала, несмотря на все усилия доктора Куэваса, который стал применять новейшие европейские методы: холодные ванны и лечение электрическим током.
Баррабас сопровождал девочку всегда, днем и ночью, кроме тех случаев, когда бегал к своим подругам. Его огромная тень следовала за ней, такая же молчаливая, как сама Клара. Он бросался к ее ногам, когда она садилась, а ночью спал рядом, храпя, как локомотив. Он сумел так глубоко понять свою хозяйку, что, когда она, словно сомнамбула, двигалась по дому, он следовал за ней в таком же состоянии. В полнолуние можно было видеть, как они бродят по коридорам, подобно двум призракам, парящим в бледном свете луны. Баррабас рос и становился норовистым псом. Он так и не смог понять, что за штука прозрачное стекло; в невинном желании поймать какую-нибудь муху пес частенько бросался на окна. В грохоте разбившихся стекол он падал по ту сторону окна, удивленный и грустный. В те времена стекла привозили из Франции, и собачья привычка превратилась в серьезную проблему, пока Клара не нарисовала на стеклах кошек. Став взрослым, Баррабас перестал забавляться с ножками рояля, что он любил делать, будучи щенком. Инстинкт продолжения рода пробуждался в нем только тогда, когда он унюхивал поблизости сучку, у которой началась течка. И тогда уже ни цепь, ни двери не могли удержать его; преодолевая все преграды на пути, он бросался на улицу и пропадал на два-три дня. Возвращался он всегда с подругой, та следовала за ним, словно паря в воздухе, сраженная его мощью. Детей срочно уводили, чтобы они не видели подобной жути, а садовник обливал собак холодной водой и остервенело пинал ногами, пока Баррабас наконец не отрывался от своей возлюбленной. Пес уходил, оставляя ее умирать во дворе, и Северо из сострадания пристреливал ее.
Отрочество Клары тихо протекало в огромном родительском доме с тремя патио; баловали ее все: старшие братья, Северо, любивший ее больше других детей, Нивея и Нянюшка, из лучших побуждений продолжавшая переодеваться в пугал. Потом братья Клары женились и уехали, одни путешествовать, другие работать в провинции. Огромный дом, который строился в расчете на большую семью, оказался почти пустым, и многие комнаты закрыли. Отзанимавшись с преподавателями, девочка читала, передвигала предметы, бегала с Баррабасом, предсказывала и училась ткать – это было единственное из домашних искусств, которое ей покорилось. С того самого Страстного четверга, когда падре Рестрепо назвал ее одержимой дьяволом, вокруг нее словно возникла тень отчуждения, только родители и братья по-прежнему любили ее. Слухи о ее странных способностях передавались шепотком по всему городу. Клару никто из знакомых никуда не приглашал, и даже двоюродные братья и сестры ее избегали. Мать постаралась возместить отсутствие друзей своей самоотверженной любовью, и усилия ее были не напрасны: девочка росла веселой. Став взрослой, Клара будет вспоминать о детстве как о лучшей поре своей жизни, вопреки одиночеству и немоте. Всю жизнь она будет хранить в памяти вечера, проведенные с матерью в швейной комнате, где Нивея шила на машинке платья для бедных и рассказывала ей семейные предания и анекдоты. Она показывала дочери старые фотографии на стенах и вспоминала о прошлом.
– Ты видишь этого сеньора, такого серьезного, с бородой пирата? Это дядя Матео, он уехал в Бразилию торговать изумрудами, но одна жгучая мулатка сглазила его. У него выпали волосы, отслоились ногти, зашатались в деснах зубы. Он пошел к негру-колдуну. Тот дал ему амулет, и у него укрепились зубы, отросли ногти и даже волосы. Взгляни на него, доченька, на нем больше волос, чем на индейце: это единственный в мире лысый, у которого вновь выросли волосы.
Клара, ничего не говоря, улыбалась, а Нивея продолжала рассказывать, потому что привыкла к молчанию дочери. Кроме того, мать надеялась, что, наслушавшись разных историй, дочь рано или поздно задаст какой-нибудь вопрос и тем самым снова заговорит.
– А этот, – рассказывала она, – это дядя Хуан. Я его очень любила. Однажды он с шумом выпустил газы, и это стало ему смертным приговором, ужасное несчастье! Случилось это благоуханным весенним днем, во время пикника. Все мы, двоюродные сестры, были в муслиновых платьях и в шляпках, украшенных цветами и лентами, а юноши блистали в своих лучших воскресных костюмах. Хуан снял с себя белый пиджак – я как сейчас его вижу! – засучил рукава и ловко повис на ветке дерева – он был хорошим спортсменом и хотел покрасоваться перед Констанцей Андраде, королевой сезона, из-за которой, едва увидев ее, он просто голову потерял. Хуан выполнил две безупречные гимнастические фигуры, потом полный оборот и вот тут-то с шумом испустил газы. Не смейся, Клара! Это было ужасно! Наступила мертвая тишина, и вдруг королева сезона начала безудержно хохотать. Хуан надел пиджак, жутко побледнел, отошел не торопясь в сторону, и больше мы его никогда не видели. Его искали даже в Иностранном легионе, спрашивали о нем во всех консульствах, но больше никто никогда ничего не слышал о нем. Я думаю, он стал миссионером и поехал к прокаженным на остров Пасхи – там, вдали от морских путей, можно забыть все и быть забытым всеми, этого острова даже нет на многих картах. С тех пор, вспоминая о нем, его называют Хуан Пук.
Нивея подводила дочь к окну и показывала на пень от тополя.
– Это было громадное дерево, – говорила она. – Я приказала спилить его еще до рождения своего первенца. Дерево было таким высоким, что, говорят, с вершины его можно было видеть весь город, но единственный, кто забрался так высоко, был слепым и не мог ничего увидеть. Каждый мальчик из рода дель Валье, когда ему предстояло надеть длинные брюки, должен был забраться на дерево и доказать свою храбрость. Это было как обряд посвящения. На дереве осталось полным-полно зарубок. Я своими глазами видела их, когда его свалили. На нижних ветках, толстых, как печная труба, были видны зарубки, оставленные прадедами, залезавшими на дерево в своем детстве. По инициалам, вырезанным на стволе, узнавали о тех, кто забрался всех выше, о самых отважных, а также о тех, кто струсил. И вот настала очередь и для Херонимо, слепого двоюродного брата, лезть на дерево. Он полез, ощупывая ветви, ни секунды не колеблясь, ведь он не видел вершины и не ощущал пустоты. Он добрался до верхушки, начал вырезать первую букву «X» и, не закончив, рухнул как подрубленный, упав вниз головой к ногам отца и братьев. Ему было пятнадцать лет. Завернув в простыню, его, мертвого, принесли матери, несчастной женщине, а она стала плевать всем в лицо, выкрикивала ругательства, какие срываются только с языка матросов, проклинала всех, кто подстрекал ее сына влезть на дерево, и в конце концов, надев на нее смирительную рубашку, ее отвезли к монахиням – сестрам милосердия. Я знала, что придет время и мои сыновья должны будут лезть на это проклятое дерево. Поэтому я и приказала спилить его. Я не хотела, чтобы Луис и другие дети росли под тенью этого эшафота.
Иногда Клара вместе с матерью и двумя или тремя ее подругами-суфражистками ходила на фабрики. Там сеньоры, встав на ящики, обращались с речами к работницам, а управляющие и хозяева, насмехаясь и злясь, наблюдали за ними издалека. Несмотря на свой юный возраст, Клара сумела понять всю нелепость подобных сцен и описала в своих тетрадях, как мать и ее подруги, одетые в меха и замшевые сапожки, вещают о рабстве, равенстве и правах покорной толпе работниц в грубых передниках из простой ткани и с красными обмороженными руками. С фабрики суфражистки шли в кафе на Пласа де Армас, пили чай с пирожными, рассуждали об успехах кампании – легкомысленные и пламенные идеалистки. Иногда мать брала ее с собой в отдаленные кварталы, куда они приезжали в машине, груженной продуктами и одеждой, которую Нивея и ее подруги шили для бедных. А вернувшись домой, девочка писала, что благотворительность не способна установить справедливость. Ее отношения с матерью были близкими и радостными. Нивея, хотя в доме было полно детей, вела себя с ней так, как если бы Клара была ее единственным ребенком, и в конце концов любить Клару стало своеобразной семейной традицией.
Нянюшка уже давно превратилась в женщину без возраста, но сохранила нетронутой силу молодости; она продолжала прятаться в темных углах, пытаясь испугать девочку. Дни напролет она помешивала палкой в медном тазу, стоящем на адском огне посреди третьего дворика. В нем булькало айвовое варенье, густая жидкость цвета топаза, которую, когда она застывала, Нивея относила беднякам. Нянюшка привыкла жить, окруженная детьми, и, когда старшие выросли и разъехались, всю свою нежность отдала Кларе. Хотя девочка была уже далеко не в том возрасте, когда ее надо было купать как младенца, Нянюшка усаживала ее в ванну, наполненную водой, пахнущей жасмином и базиликом. Она тщательно терла ее губкой, не забывая об ушах и пальцах ног, растирала ее одеколоном, пудрила кисточкой из лебяжьего пуха, расчесывала волосы долго и терпеливо, пока они не становились блестящими и гладкими, точно морские растения. Она одевала Клару, убирала кровать, приносила ей на подносе завтрак, заставляла принимать липовый настой, успокаивающий нервы, яблочный – для желудка, лимонный – для того, чтобы кожа была прозрачной, настой из розы – для печени и из мяты – для свежести во рту. Вскоре девочка превратилась в прекрасное ангелоподобное существо, что бродило по всем патио, коридорам и комнатам, окутанное ароматом цветов, в шорохе накрахмаленных юбок, в сиянии лент и кудрей.
Клара провела свое детство и вошла в юность в стенах своего дома, в мире удивительных рассказов, безмятежного молчания, в том мире, где время не отмечалось часами или календарями, где предметы жили своей собственной необыкновенной жизнью и где все могло случиться. Призраки сидели за столом вместе с людьми, разговаривали с ними, прошлое и будущее являлись частью единого целого, а события настоящего напоминали беспорядочные картинки калейдоскопа. Я испытываю наслаждение, читая Кларины дневники того времени, – в них описывается волшебный мир, которого уже не существует. Клара жила в мире, придуманном для нее, оберегаемая от жизненных невзгод. В этом царстве смешалась прозаическая правда реальности с поэтической правдой снов, в этом мире не действовали законы физики или логики. Клара прожила детство и отрочество, погруженная в свои фантазии, с духами, населяющими воздух, воду и землю, прожила такая счастливая, что целых девять лет не чувствовала потребности заговорить.
Все уже давно потеряли надежду снова услышать ее голос. И вот, в день ее рождения, после того как она задула девятнадцать свечей на шоколадном торте, словно расстроенное пианино, прозвучал голос, который Клара берегла все это время.
– Скоро я выйду замуж, – сказала она.
– За кого? – спросил Северо.
– За жениха Розы, – ответила Клара.
И только тут все спохватились, что она впервые за девять лет заговорила, и чудо потрясло дом до основания, вызвав слезы у всей семьи. Начались бесконечные звонки, новость полетела по городу, сообщили доктору Куэвасу – он никак не мог поверить в такое чудо. В этой суматохе все забыли, что` же сказала Клара, и вспомнили только тогда, когда спустя два месяца на пороге дома появился Эстебан Труэба, которого не видели со дня похорон Розы, и попросил Клариной руки.
* * *
Эстебан Труэба вышел из поезда и сам понес два чемодана. Вокзал, который, держа в своих руках все железные дороги страны, соорудили когда-то англичане по примеру вокзала Виктории, совершенно не изменился с того времени, когда в последний раз, так много лет назад, Эстебан уезжал отсюда. Те же грязные стекла, дети – чистильщики сапог, продавцы хлебцев, сластей, носильщики в черных шапках с британской эмблемой короны, которую никому и в голову не пришло заменить на другую, с цветами национального флага. Эстебан сел в экипаж и назвал адрес матери. Город показался ему незнакомым, в нем царил хаос новой жизни: женщины в коротких платьях, демонстрирующие всем и каждому свои икры, мужчины в жилетах и брюках с напуском, рабочие, роющие ямы на мостовой, чтобы поставить столбы, убирающие столбы, чтобы построить здания, разрушающие здания, чтобы посадить деревья, уличные торговцы и мастеровые, мешающие всем, кричащие о заточке ножей, о жареных земляных орехах, о куколке, что танцует сама по себе, без проволоки: «посмотрите сами, потрогайте рукой». Запахи помоек, пригоревшего жаркого, фабрик, автомобилей, сталкивающихся с экипажами и конками, влекомыми живой силой тяги, как тогда называли старых лошадей, – они еще служили городу; сопение толпы, гул бегущих, спешащих туда-сюда – всем некогда, все хотят успеть вовремя. Эстебан почувствовал себя не в своей тарелке. Сейчас он ненавидел город больше, чем раньше, чем тогда, когда думал о нем в деревне; ему вспомнились сельские проселки, дожди, которыми мерили время, необозримая тишина пастбищ, чистый покой реки и его тихий дом.
– Не город, а дерьмо, – заключил он.
До дома, где он вырос, Эстебан доехал быстро. Он был потрясен, увидев, каким безобразным стал их квартал за то время, как богатые захотели жить выше всех – и город полез на отроги Кордильер. От площади, где он играл ребенком, ничего не осталось, лишь заброшенный пустырь, свалки, где стояли телеги торговцев и рылись в отбросах бродячие собаки. Их дом разрушался. Он увидел воочию неумолимость времени. На застекленной, уже расшатанной двери с экзотическими птицами на отшлифованном стекле, которое вышло из моды, висел бронзовый дверной молоток: женская рука, держащая шар. Он стукнул и какое-то время, показавшееся ему вечностью, ждал; наконец дверь открылась посредством веревки, что была привязана к щеколде и шла к лестничной площадке. Его мать жила на втором этаже, а нижний сдавала пуговичной мастерской. Эстебан стал подниматься по скрипучим ступеням, их уже давно не натирали воском. Старая-престарая служанка, о существовании которой он забыл начисто, ждала его наверху и встретила со слезами, подобно тому как встречала его, когда он в пятнадцать лет возвращался из нотариальной конторы, где зарабатывал на жизнь: снимал копии с документов по продаже имущества и имений совершенно незнакомых ему людей. Почти ничего не изменилось, даже мебель осталась на тех же местах, но Эстебану все показалось другим – деревянный пол коридора был истерт, стекла разбиты и неумело залатаны кусками картона, пыльные пальмы чахли в грязных глиняных горшках, стоящих на фаянсовых облупившихся подставках. Зловоние от мочи и прокисшей еды вызывало у него спазмы в желудке. «Какая бедность!» – подумал Эстебан, не задавая себе вопроса, куда ушли все деньги, которые он посылал сестре, чтобы им жилось прилично.
Ферула вышла навстречу, поздоровалась. Она очень изменилась, от пышнотелой женщины, какой он ее помнил, ничего не осталось, она похудела, на угловатом лице выделялся огромный нос. Вид у сестры был меланхоличный, она казалась подслеповатой, от нее исходил крепкий запах лаванды и старой одежды. Они молча обнялись.
– Как себя чувствует мама? – спросил Эстебан.
– Иди к ней, она ждет тебя, – ответила Ферула.
Они пошли по коридору, миновали комнаты с высокими потолками и узкими окнами – все одинаковые, темные. Стены их выглядели какими-то траурными, хотя и были оклеены цветастыми обоями с изображениями томных барышень. Все было покрыто копотью жаровни и патиной времени и бедности. Издалека доносился голос радиодиктора, рекламирующего пилюли доктора Росса, маленькие, но эффективные при запоре, бессоннице и затрудненном дыхании. Остановились перед дверью спальни доньи Эстер Труэбы.
– Она здесь, – сказала Ферула.
Эстебан открыл дверь, ему потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к темноте. В лицо ударил запах лекарств и гниения, сладковатый запах пота, сырости, заточения и какой-то еще, который поначалу он не смог определить, но скоро тот прилип к нему, как чума, – запах разлагающейся плоти. Свет тонкой струйкой лился через полуоткрытое окно. Он увидел широкую кровать, на которой умер его отец и где спала его мать со дня своей свадьбы, – кровать резного черного дерева под балдахином с вышитыми гладью ангелами и остатками красной парчи, поблекшей от времени. Мать полулежала. Это была глыба плотного мяса, чудовищная пирамида из жира и тряпья, увенчанная маленькой лысой головой с нежными, наивными, удивительно живыми голубыми глазами. Болезнь превратила ее в монолит, суставы не сгибались, голова не поворачивалась, пальцы скрючились подобно лапам окаменевшего животного, и чтобы она могла полулежать в кровати, в изголовье был поставлен ящик, который поддерживался деревянным брусом, прикрепленным к стене. Ход времени прочитывался по следам, что оставил деревянный брус на стене, по следам страдания и боли.
– Мама… – пробормотал Эстебан, и голос его оборвался.
Грудь сдавило от сдерживаемых рыданий, и в одно мгновение стерлись горькие воспоминания о бедном детстве, прогорклых запахах, холодных утрах, жирном супе, о больной матери, неведомо где гуляющем отце и о ярости, что пожирала его изнутри с того дня, как он стал себя помнить. Все забылось, кроме радостных мгновений, когда эта незнакомая женщина, лежащая в кровати, нянчила его на своих руках, дотрагивалась до лба, испугавшись, что у него температура, пела ему колыбельную песенку, склонялась вместе с ним над страницами книг, страдала от горя, когда видела, что ему нужно рано вставать и идти на работу, еще ребенку, плакала от радости за него, рыдала, когда он возвращался поздно, мама, из-за меня.
Донья Эстер протянула руку, но это было не приветствием, а жестом, которым она хотела остановить его.
– Сын, не подходите. – Голос ее не изменился, таким Эстебан и помнил его, певучим и молодым, как у девушки.
– Это из-за запаха, – сухо пояснила Ферула. – Он не исчезает.
Эстебан откинул уже обтрепавшееся покрывало из камчатной ткани и увидел ноги матери. Две синеватые колонны, слоноподобные, покрытые язвами, где, проделав тоннели, жили личинки мух и червяки, две ноги, гниющие при жизни хозяйки, со ступнями бледно-синеватого цвета, без ногтей, исчезнувших в гное, в черной крови, в мерзких червях, питавшихся ее плотью, – «Боже, мама, моей плотью».
– Доктор хочет ампутировать их, сын, – сказала донья Эстер спокойным, юным голосом, – но я слишком стара для операции и очень устала от страданий, уж лучше так и умру. Но я не хотела умирать, не повидав вас, ведь все эти годы я думала, что вас нет в живых и что письма от вас пишет ваша сестра, дабы не причинять мне боли. Встаньте к свету, сын, мне хочется как следует разглядеть вас. Боже! Вы похожи на дикаря!
– Я жил в деревне, мама, – пробормотал он.
– Конечно! Выглядите вы еще очень крепким. Сколько же вам лет?
– Тридцать пять.
– Прекрасный возраст для женитьбы и тихой жизни, и я могла бы умереть спокойно…
– Вы не умрете, мама! – застонал Эстебан.
– Я хочу быть уверенной в том, что у меня будут внуки, родные мне по крови, что они будут носить нашу фамилию. Ферула потеряла всякую надежду выйти замуж, но вы должны подыскать себе супругу. Женщину порядочную, христианку. Но сперва вам нужно подстричься и сбрить бороду. Вы меня слышите?
Эстебан кивнул. Он встал на колени перед матерью и припал лицом к ее раздувшейся руке, но запах тотчас оттолкнул его. Ферула подошла и вывела его из комнаты, полной страдания. За дверями он глубоко вздохнул, почувствовал прилипший к ноздрям запах, и тут опять ощутил ярость, столь знакомую ему, приливавшую горячей волной к голове, ослеплявшую глаза. Эта ярость вырвала из его уст проклятия, достойные пирата. «Из-за того что все это время я не думал о вас, мама, оттого что не заботился, не любил, не был достаточно внимательным, ярость к себе, сукин я сын, нет, простите, мама, я не то хотел сказать, черт побери, она умирает, старая, а я ничего не могу поделать, даже уменьшить боль, спасти от гниения, от этого ужасного запаха, от этого смертельного бульона, в котором Вы варитесь, мама…»
Два дня спустя донья Эстер Труэба умерла на своем ложе пытки, где она так мучилась все последние годы. В час смерти она оказалась одна. Ее дочь Ферула ушла, как обычно по пятницам, в квартал Милосердия, в приюты для бедных и в монастырь, читать молитвы нищим, безбожникам, проституткам и сиротам – а те бросали в нее мусор, плевались и выливали на нее содержимое плевательниц. Она стояла на коленях в галерее небольшого монастыря, неустанно выкрикивала «Отче наш» и «Аве Мария», терпела все свинские выходки нищих, проституток и сирот, плакала от унижения, взывала к прощению тех, кто не ведает, что творит, терзалась оттого, что слабеет, что смертельная усталость превращает ее ноги в вату, что летний жар затопляет грехом ее тело. «Отведи от меня эту чашу, Боже, ведь все нутро у меня горит адским пламенем. О Иисусе, я так послушна Твоей воле, так боюсь греха, Отче наш, не дай мне впасть в искушение».
Эстебана тоже не было рядом с доньей Эстер в безмолвный час ее смерти. Он ушел навестить семью дель Валье, посмотреть, не осталось ли у них незамужней дочери. После стольких лет жизни в глуши он не мог сообразить, как выполнить обещание, данное матери, подарить ей законных внуков, и решил, что, если Северо и Нивея его приняли прежде, когда он был бедным женихом красавицы Розы, нет никакой причины не принять его снова, теперь, когда он стал богатым и ему уже не надо рыть землю, чтобы найти золото, напротив, у него есть свой счет в банке и деньги, необходимые для свадьбы.
Вечером Эстебан и Ферула нашли свою мать в постели уже мертвой. На устах ее была тихая улыбка, словно в последний миг жизни боль перестала терзать ее тело.
* * *
Когда Эстебан Труэба пришел к ним с визитом, Северо и Нивея вспомнили те слова, что Клара произнесла после долгого молчания; и они ничуть не удивились, когда гость спросил, нет ли у них какой-нибудь дочери на выданье. Они рассказали, ничего не утаивая, что Ана постриглась в монахини, Тереса очень больна, а остальные замужем, кроме Клары, самой младшей, она свободна, но несколько эксцентрична и мало пригодна для домашней жизни и матримониальных обязанностей. Как истинно порядочные люди, они поведали ему о странностях младшей дочери, не скрыв того, что половину своей жизни она не говорила, потому что не хотела говорить, а не оттого, что не могла, как очень толково объяснил им румын Ростипов и затем подтвердил доктор Куэвас. Но Эстебан Труэба был не из тех, кого можно было испугать историями о призраках, бродящих по коридорам, о предметах, двигающихся с помощью таинственной силы, или о предсказаниях несчастий, и уж тем более его нельзя было испугать рассказом о долгом молчании, ибо молчание он считал добродетелью. Он находил, что ни одно из этих чудачеств не помешает Кларе родить здоровых детей, и попросил представить его девушке. Нивея вышла поискать дочь, а мужчины остались в гостиной одни, и Труэба решил воспользоваться случаем и откровенно рассказать о своем экономическом положении.
– Пожалуйста, не продолжайте, Эстебан! – прервал его Северо. – Прежде всего вам нужно познакомиться с девушкой, узнать ее лучше, а кроме этого, не худо было бы узнать желание самой Клары. Разве не так?
Вскоре Нивея вернулась вместе с дочерью. Девушка вошла в гостиную с обветренными щеками и черными ногтями, она помогала садовнику высаживать клубни георгинов. Ясновидение изменило ей в этот день: она не была готова к встрече будущего жениха. Увидев ее, Эстебан встал пораженный. Он помнил Клару худенькой, астматической малюткой, отнюдь не грациозной, а девушка, которая предстала перед ним, напоминала великолепную статуэтку слоновой кости, с нежным лицом, копной каштановых волос, вьющихся в беспорядке, кольцами выбивающихся из прически, с печальными глазами, которые становились насмешливыми и искрящимися, когда, слегка закинув голову назад, она смеялась очень искренним и открытым смехом. Она поздоровалась с ним за руку без какой-либо робости.
– Я вас ждала, – просто сказала она.
Уже прошли два часа, а визит вежливости все продолжался. Говорили о любви, о путешествиях в Европу, о политическом положении в стране и о зимних холодах, пили мистелу и ели пирожные из слоеного теста. Эстебан наблюдал за Кларой со всей тактичностью, на какую только был способен, и чувствовал, как девушка все более и более пленяет его. Он не мог припомнить, чтобы после того великого дня, когда он увидел Розу, красавицу, покупающую анисовую карамель в кондитерской на Пласа де Армас, кто-то еще заинтересовал его так, как Клара. Он про себя сравнивал двух сестер и признался, что Клара превосходила сестру в обаянии, хотя Роза, несомненно, была гораздо более красивой. Стемнело, пришли две служанки – задернуть занавески и зажечь свечи, только тут Эстебан сообразил, что визит его слишком затянулся. О да, его манеры оставляли желать много лучшего. С каменным лицом он попрощался с Северо и Нивеей и попросил разрешения снова навестить Клару.

