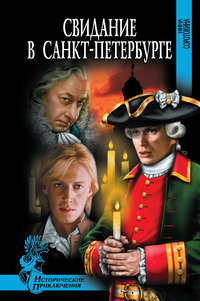
Свидание в Санкт-Петербурге
Жизнь кипела в Московской стороне, но время забирает всех. Разной смертью ушли в мир иной обитатели аристократического квартала. Центр Петербурга переместился, и Литейная сторона зажила новой, трудовой и озабоченной жизнью.
Дворец Натальи Алексеевны со всеми подворьями был занят Канцелярией от строений и мастерскими департамента. Дом Алексея Петровича перешел в ведение Дворцовой канцелярии, в нем стали варить различные пития для царского дома. В палатах покойной Марфы Матвеевны поселились архитекторы, в бывших амбарах оборудовали печи, и скульптор Растрелли принялся за отливку конной статуи императора. Палаты Кикина были отданы под Морскую академию, в которой проходили курс кадеты и гардемарины.
Словом, сейчас, двадцать три года спустя после смерти Петра Великого, Литейная сторона совершенно изменилась против первоначального плана. Указ «строить дома вплоть нити, натянутой между вехами», здесь уже не соблюдался. В былые времена нарушителей, чей особняк выпирал из ряда, или, наоборот, пятился в глубь улицы, или, еще того хуже, – прятался за забором, мало того что штрафовали, так еще лишали построенного жилья.
Теперь же всюду царствовала живопись почти московская. Искрошив границы площадей, выстроились какие-то склады, палатки, пакгаузы, боком примкнули к улице какие-то новые рубленые хоромы, разрослась молодая роща, поглотив останки разрушенного, кое-где еще блестящего позолотой мазанкового дворца, сами собой бестолково и не к месту выросли заборы, вдоль них поднялся пышный пырей и прочий бурьян. Улицы стали изгибисты и вихлявы, пробираться по ним в карете стало сущим мучением, не забывайте еще про топкую, пропитанную влагой почву. Ближе к Фонтанке разместилась убогая слобода мастерового люда с хижинами, крытыми соломой и дранкой, рынок, прозванный Пустым, и, наконец, Литейный завод с башнями и шпилями на них, которые наперекор окружающему пейзажу имели экзотический восточный вид.
По соседству с Канцелярией от строений за типовым забором (впрочем, слово «типовой» тогда не применялось, говорили «повторный») разместился каменный двухэтажный дом с высокой, с изломом кровлей и крыльцом по центру. Дом этот с садом и подворьями был откуплен у Канцелярии неким весьма богатым иностранцем – ювелиром Луиджи, работавшим украшения для дворца ее величества. Венецианец Луиджи займет особое место в нашем повествовании, а пока лишь скажем, что он же является хозяином небольшого флигелька с мезонином, стоящего в глубине сада.
Флигелек два года назад был снят мичманом Корсаком с семейством. Дом этот, может быть, и не отвечал всем запросам молодого мичмана: он был мал и отнюдь не дешев, по весне подвалы его заливала талая вода, плодя целые сонмы лютых комаров, но сад и некая изоляция от большого города пленили жену его Софью и маменьку Веру Константиновну. Сам мичман находил удобство в том, что буквально в двух шагах находилась пристань, к которой могли подходить катера, верейки и рябики. Кроме того, Морская академия была рядом.
В академии Алексей Корсак учился два последних курса, имел добрые отношения с преподавателями, посему, хоть и служил теперь на флоте, был в палатах Кикина частым гостем.
Спроси у Софьи любой – счастлива ли она в браке? – о, конечно, другого ответа нет и быть не может! У нее лучшие в мире дети, Николеньке уже четыре года, Лизонька – прелестный младенец. Вера Константиновна – почти примерная свекровь. Время не охладило Алешиных чувств, не убавило нежности, и Софья ни в коем случае не завидует женам сухопутных мужей, которые видят своих супругов каждый день или хотя бы каждую неделю. Она жена моряка, и этим все сказано.
Но одно дело, когда моряк в плавании, торговом или географическом, или, скажем, держава воюет. Но если флот русский пребывает в состоянии постоянного ремонта, если чинят его и зимой и летом, то можно, кажется, выкроить время для семьи. Три года Алеша с хмурым и решительным видом твердил, что эскадра давно бы вышла в море, если б не равнодушие Адмиралтейства, не происки чиновников в Военной коллегии; он месяцами пропадал в Кронштадте, словно купец, занимался покупкой такелажа и леса для мачт, а потом и вовсе отбыл в безвременную командировку в порт Регервик бить сваи. Теперь пишет письма и в каждом заверяет, что если к следующему месяцу не вернется, то непременно заберет Софью с детьми к себе. А зачем ей в Регервик, если и в Петербурге хорошо?
Вера Константиновна, в отличие от Софьи, ко всему относилась спокойно. Удел мужчин – служить, удел женщин – ждать, она давно привыкла к отсутствию сына. На старости лет Господь подарил ей семью и сподобил жить в столице! Петербург поражал ее воображение. Проживя всю жизнь в псковской глуши, она не переставала восхищаться славным городом и удобством его быта, а что касаемо погоды и угрозы наводнения, то все в воле Господней, а дождь – тоже Божья роса.
Внуки ее забавляли, но она не вмешивалась в их воспитание, не ссорилась с няньками, не выговаривала Софье, что гуляют много и лекарь у детей плох. Вера Константиновна вела хозяйство, и, хоть в доме милостью благодетеля Софьи князя Черкасского был полный достаток, можно даже сказать – богатство, она экономила на каждой мелочи, находя невинную радость в том, чтобы набивать чулок монетами разного достоинства – «на черный день». Она сама ходила со служанкой на Пустой рынок, отчаянно торговалась в мясных рядах, и в овощных, и в рыбных, но совершенно теряла бдительность в посудной лавке, которая торговала раз в неделю.
При виде пузатого молочника с цветком-колокольчиком, или лопатки для пирога с длинным стеблем и львиной рожей на конце, или старинной чары в виде лебедя она забывала, что «черный день» вполне может обойтись без подобных излишеств. Принеся посуду домой, она прятала ее в шкапчик под ключ, а потом, краснея как девица и кляня себя за расточительность, показывала покупки Софье. Та пожимала плечами: «Нравится, маменька, так и покупайте». Не таких слов ждала она от невестки. Софья должна была восхититься, потом узнать цену, потом порадоваться удаче, потом намекнуть: а не безумство ли это – тратить деньги на безделицы, и, наконец, простить свекровь из любви к искусству. Равнодушие Софьи обижало, и Вера Константиновна зарекалась – полушки медной не тратить больше на красоту! Но через неделю она попадала в посудную лавку, и все начиналось сначала.
Словом, жизнь в семействе Корсаков была тихая, размеренная, и, направляясь во флигель под кленами, Никита Оленев вполне предвидел, как трудно будет уговорить Софью поехать с ним на маскарад. Алеша аккуратно писал другу и в каждом письме непременно просил позаботиться о жене. Свою заботу Никита видел не только в том, чтобы справиться о хозяйственных нуждах и предложить свою помощь, но и в необходимости развлечь Софью, если представится случай.
Бал-маскарад в Зимнем дворце, что может быть восхитительнее! Там будут петь итальянцы и представлять живые сцены, сама государыня, наследник и великая княгиня предстанут перед публикой в маскарадных костюмах, весь Петербург будет там.
Время от времени Никита опускал руку в карман и ощупывал пригласительный билет, отпечатанный в Дрездене на атласной бумаге, украшенной причудливым рисунком. Билет с великим трудом достала во дворце Анастасия – Саша не забыл просьбы друга.
Сзади раздался гортанный крик, Никита поспешно отступил в сторону. На мост выскочила карета, и он увидел в окошке лицо мужчины, показавшееся ему знакомым. Встретившись с Никитой глазами, мужчина поспешно задернул шторку, словно намереваясь скрыть от постороннего взгляда соседа в треуголке.
Карета благополучно миновала мост, выскочила на мощенную деревянными плашками мостовую и вдруг – трах! Колесо попало в выбоину, и тут же, как на грех, подвернулся камень. Если бы не мастерство кучера, карета непременно завалилась бы набок. А здесь она каким-то чудом остановилась, и только колесо, соскочив с оси, продолжало самостоятельно катиться, поспешая к месту назначения.
«Ах, ох, тудыть тебя» и прочий набор междометий! Кучер поймал колесо и застыл около кареты, почесывая затылок, – одному, пожалуй, не управиться.
Из кареты вышли двое, обругали кучера, но сдержанно, не по-русски, и быстро пошли прочь от кареты. На ходу тот, что задергивал шторку, оглянулся, и Никита его наконец узнал.
Дворянин, приехавший в Россию по делам купеческим, – Ханс Леонард Гольденберг. Это был первый иностранец, кому Никита оформлял паспорт, и, конечно, он не запомнил бы Ханса, если бы обер-секретарь не торопил, прямо бумагу из рук рвал – скорей, дело важное. У Гольденберга была запоминающаяся примета – правая бровь рассечена шрамом и вздернута, словно в усмешке.
Кучер, смачно ругаясь, ставил колесо, вокруг собрались зеваки. Спутника Гольденберга, высокого красавца в подбитом мехом плаще и треуголке с позументом, Никита раньше не видел. А почему, собственно, красавца? Может, у него нос длинный, как морковь, и косоглазие – что скажешь о человеке, видя его только со спины. Но рост, посадка головы, походка – все выдавало в незнакомце породу.
Никита выпрямился, подобрав живот, изящным движением поправил шляпу и, копируя походку незнакомца, легко зашагал за ними вслед. Вот как нужно ходить! Тогда хоть со спины, но каждый скажет – вот красавец пошел…
Видимо, двум мужчинам показалось, что их преследуют. Они прибавили шаг, а потом резко свернули за угол.
Никита рассмеялся, позволил себе расслабиться и своей обычной походкой вошел в калитку сада господина Луиджи.
Софья очень обрадовалась его приходу, потащила в детскую, наказала кухарке увеличить вдвое количество блюд к обеду – у нас гость дорогой! Но когда она услышала про маскарад – категорически сказала «нет». Никита вздохнул и принялся уговаривать.
Софья слушала его насупившись. Куда ехать, если у Николеньки горло красное, а Лизонька с утра капризничает! И потом, с чего он взял, что она жертвует собой ради дома? Жертва – это когда на костер идешь, когда во имя чего-то высокого жизни не жалеешь, а отказ от всей этой мишуры – бала, танцев, помилуйте, это просто исполнение материнского долга.
Тогда Никита повернул разговор на боковую тропочку, как бы к Софье отношения не имеющую…
– Голубчик мой Софья, пойми… Ты обяжешь меня на всю жизнь! Билет на две персоны. Я не могу поехать во дворец без дамы!
С таинственным видом он начал намекать на некую интригу, в которой Софья могла бы ему помочь, говорил, что она должна заменить на балу Алешку, который уж точно никогда не отказал бы другу.
– Но я замужняя дама, я не могу ехать во дворец с посторонним мужчиной!
– Это я-то посторонний?
– Я никогда не была в императорском дворце. Я не представлена ко двору!
– Я тоже не был. Я тоже не представлен. Что из того? Маскарад не признает условностей!
Дело решила Вера Константиновна. Она явилась в комнату, постояла в дверях, слушая их перепалку, и сказала решительно:
– Непременно надо ехать. Это такая удача – билет во дворец. Если Софья не поедет, бери, Никита-друг, меня. Уж я-то найду, чем заняться на маскараде. – Она вскинула голову и ушла на кухню следить за кухаркой, чтоб та не извела лишних продуктов.
– А костюм?
Никита понял, что барьеры пали.
– Через полчаса сюда приедут Сашка с Анастасией и привезут роскошный костюм!
При упоминании о Белове Софья слегка нахмурилась. Нельзя сказать, чтобы она недолюбливала Сашу, скорее просто стеснялась – уж очень он был в себе уверен и еще скрытен, еще напыщен, а потом эта дурацкая манера острить и все осмеивать! Право, его насмешливость касалась до всего, он мог ерничать даже по поводу детских болезней. А его отношения с Алешей… «Твоя приверженность русскому флоту просто смешна, – так он говорил. – Это безрассудство – любить то, чего нет!» Алеша относился к подобным замечаниям со смехом, он вообще прощал Саше любые слова и выходки, но Софья их прощать не хотела.
Другое дело – его жена. Ее нельзя было назвать подругой, слишком они были разные, да и виделись крайне редко, но Анастасия любила их флигелек, часами могла слушать о детях, и Софья забывала, что она гордячка, что приближена к государыне и ведет жизнь, совершенно отличную от ее собственной.
Саша приехал один, был сух, официален, сказал, что Анастасии не удалось вырваться из дворца и что она их там встретит. Нахмуренное лицо его как нельзя лучше шло к чопорному испанскому костюму, состоящему из атласной, подбитой ватой куртки с неимоверно узкой – не вздохнуть – талией и коротких штанов.
Костюм Никиты не имел названия, что-то средневековое, скажем, из жизни алхимиков: бархатный плащ, берет с длинными, поднятыми вверх краями и черная маска-лорнет.
– А повеселее ничего не было? – спросил Никита, примеряя берет.
– А чего тебе веселиться? – недовольно пробурчал Саша. – Ты мизантроп. И попробуй подобрать костюм на твой рост? А в этом берете ты похож на Эразма Роттердамского.
– Такой же умный… – Никита скорчил рожу в зеркале.
Но Софья… Приняв трепетными руками коробку с костюмом, она надолго исчезла из комнаты, а потом появилась в чем-то красном, сверкающем, флорентийском или венецианском, словом, что-то из эпохи Ренессанса. Голову ее украшал замысловато повязанный прозрачный шарф с ниспадающими на плечи концами, на висках туго, как пружинки, вились локоны. Эта прическа делала ее похожей на одну из итальянских мадонн, а слабая озабоченность больным горлом Николеньки и капризами Лизоньки и, конечно, раскаяние, что она идет куда-то без мужа, выражались чуть заметной складочкой меж бровей, делая ее строгой и по-царски неприступной.
– Богиня! – развел руками Никита.
– Вам очень идет этот костюм, – согласился Саша, и в голосе его не было и тени насмешки, а только улыбка и восхищение.
Пестрая троица вышла в сад, смеясь и разговаривая. Когда они подошли к дому Луиджи, створка окна на втором этаже внезапно растворилась и Саша встретился глазами с обладательницей черных глаз и темных локонов, перевязанных желтой лентой.
– Какая пригожая девица!
– Где пригожая девица? – встрепенулся Никита. – Обожаю смотреть на пригожих девиц.
Однако в окне уже никого не было.
– Наверное, это Мария, дочь Луиджи, – сказала Софья. – Она недавно приехала из Италии, из какого-то монастыря. Такая скромница… – добавила она насмешливо. – Воображаю, как удивил ее наш вид.
Они обогнули дом. Этого времени оказалось достаточно, чтобы Мария накинула мантилью, бросила взгляд в зеркало, сбежала вниз по лестнице, выскочила в сад, а затем, едва сдерживая дыхание, чинно, как бы гуляя, проследовала навстречу Софье и ее гостям.
– А вот и она, – негромко рассмеялась Софья. – Мария, добрый вечер! Позвольте представить вам моих друзей…
Испанец Белов щелкнул каблуками неудобных туфель. Эразм Роттердамский, он же Никита Оленев, склонился в поклоне, помахивая беретом, словно пыль с дорожки сдувал перед очаровательной девицей. Мария присела, лукаво тараща на него округленные глаза.
– Мне кажется, я вас где-то видел… – нерешительно промямлил Никита.
– Я тогда была как мокрая курица, которую сунули в прорубь, – с удовольствием согласилась Мария. – Я вас сразу узнала. У меня остался ваш плащ. Я принесу… – Она сделала стремительное движение, но Софья удержала ее.
– В другой раз, – сказала она непреклонно. – Никита – частый гость в моем доме.
– Да, да… А сейчас мы спешим на маскарад во дворец. – У Марии было такое выражение лица, что Никита невольно говорил извиняющимся тоном.
Он не мог знать, что юная Мария, волнуясь и споря с собой, целых три часа, если не больше, не отходила от окна, ожидая его выхода из флигеля Корсаков. Кажется, чего проще, пойти к Софье и узнать, за какой такой надобой явился сюда красивый молодой человек. Но она не смогла этого сделать – ноги не шли. Что это – случай? Или он каким-то неведомым способом отыскал ее в огромном городе? Но все это не важно! Главное, что судьба-скупердяйка на этот раз расщедрилась.
У калитки Никита оглянулся и приветливо помахал девушке рукой.
– Мы еще встретимся, – прошептала Мария негромко.
Маскарад
Парадный подъезд дворца был ярко освещен факелами. Карет было великое множество: больших и малых, скромных, кое-как покрашенных, и роскошных, обитых бархатом с золотой бахромою, с вертикальными стеклами, с кучерами в буклях и треуголках, гайдуками и скороходами с традиционными булавами в руке. Скороходы в шапочках, курточках с бантиками явно мерзли и жались к лошадям, пытаясь похитить у них лишнее тепло…
Суета, смех, разговоры… Дамы сбрасывали теплые плащи и епанчи прямо в каретах, феями выпархивали на мостовую, вскрикивая от восторга и холода, – второе мая на дворе, – а затем исчезали за высокими деревьями. Гвардейский караул нынче пропускал всех, и уже внутри, в большом вестибюле, приглашенные предъявляли билеты.
Маскарады были любимым развлечением государыни Елизаветы, и она привила эту любовь вначале двору, а позднее и всему Петербургу, вменив особам двух первых классов давать поочередно костюмированные балы.
Самые первые маскарады назывались «метаморфозы», и их суть состояла в наивном и веселом переодевании мужчин в женские костюмы, а женщин в мужские. Государыне очень шел узкий мундир, который подчеркивал талию и крутые бедра, ботфорты удлиняли ноги, и во всем ее облике появлялось что-то озорное, юное. А как забавно выглядели ряженые старички и старушки, целый вечер можно было, надрываясь от смеха, рассматривать их нелепые фигуры и кособокую походку. Не являться на маскарад по именному приглашению было никак нельзя, мало того что штраф за неявку высок, но еще и боялись обидеть государыню. Лучше пусть хохочет, чем хмурится.
Позднее стали придумывать самые богатые и изысканные маскарадные костюмы. Завелись специальные мастерские, и, наконец, появились публичные маскарады. Итальянец Локателли стал арендовать обширные помещения, в коих ставил оперы и устраивал маскарадные вечера. Накануне Невская першпектива пестрела афишами: «Сим объявляется, что для удовольствия знатного дворянства и прочего здешнего столичного города жителей…» Для обучения танцеванию дворянская молодежь посещала платные уроки, где постигала тайны изящного движения в «миноветах, контрдансах и верхних танцах».
Кроме танцевания, дворян учили, как поклониться, опрыскаться духами, вернее, душистой водой, как пользоваться вилкой и нести в руках шляпу, чтобы с помощью оной показать свою воспитанность и галантность.
Но самые торжественные и богатые маскарады давала сама государыня. На этот раз бал устраивался в только что отстроенной части деревянного Зимнего дворца, где, по рассказам очевидцев, были роскошно декорированы залы и имелись новомодные немецкие сюрпризы. Обыватели долго ломали головы, что это за сюрпризы такие.
В танцевальной зале уже гремела музыка полкового его величества Петра Федоровича оркестра, который должен был смениться со временем виолами и альтами.
Анастасия – действительная статс-дама из свиты государыни – встречала именитых гостей. Издали увидев мужа, она подошла к их компании, расцеловалась с Софьей, чуть присела в подобии книксена перед Никитой.
Костюм ее назывался «Ночь»: черная, затканная серебром юбка была украшена фольговыми звездами, маску заменяла черная вуаль, прикрепленная звездочками к лентам прически, которая была истинным чудом куаферного искусства и носила интригующее название «бандо д’амур», что значит «повязка любви».
Саша не посмел поцеловать жену на виду у публики, которая все замечает и не терпит откровенных вольностей. Он только пожал ей руку и шепнул участливо:
– Устала?
– Устала, милый. Я давно устала, – отозвалась Анастасия, кланяясь кому-то с очаровательной улыбкой. – Государыня не в духе. На всех кричит. Санти отчитала, как мальчишку.
Франсуа Санти, пьемонтец, занимавший при дворе Елизаветы высшую должность обер-церемониймейстера, был человеком весьма уверенным в себе. Весельем и остроумием он всегда умел завоевать расположение Елизаветы, и уж если на нем она решила сорвать зло, то дело, которое ее рассердило, было серьезным.
– За что отчитала? – прошептал Саша, нежно глядя на Анастасию, уж ей-то, наверное, досталось больше, чем другим.
– Потом. Сейчас идите в залу.
– В чем будет государыня?
– Голландский шкипер.
– А великая княгиня?
– Кто ж знает, в чем будет великая княгиня? – с досадой отозвалась Анастасия. – Из-за нее у нас сегодня и случился весь этот сыр-бор. Из-за ее непослушания… Ты что на меня так испуганно смотришь? – обратилась она вдруг к Софье. – Вас это совсем не касается. Никита, развесели Софью. – Она погрозила ему пальцем и вдруг, уловив знак обер-гофмейстерины, стремительно сорвалась с места и почти бегом, высоко подбирая юбку, устремилась в противоположный угол вестибюля.
– Узнай про великую княгиню, – шепнул Никита Саше, – узнай, я тебя заклинаю! – И повел Софью вверх по лестнице.
Как описать блеск и великолепие царского дворца? Лепнина карнизов, французские мебели, гобелены, хрустальные жирандоли и зеркала всюду, которые удваивали, утраивали, удесятеряли пространство, и казалось, оно не имело границ. В каждом зеркале отражались свечи и отражения свечей, и еще раз жирандоли, и вот уже не одна ваза с нарисованной на ней яркой птицей, а целая стая птиц мечется в отраженном мире, и хоровод китайских фонарей в виде пагоды, а сверху, с плафона, заглядывает любопытствующий грифон, нет, три грифона, а еще маски, ряженые, феи, и, кажется, сам смех и разговоры их тоже отражаются в зеркалах, превращаясь в какофонию звуков.
Видя полную растерянность и смущение своей спутницы, Никита принялся за отвлеченный рассказ, пытаясь объяснить Софье происхождение слова «бал».
– Это немецкий обычай. Бал – всего лишь мяч, понимаешь? Крестьянки на Пасху дарили своим недавно вышедшим замуж подружкам сплетенный из шерсти мяч.
– А зачем им его дарили? – машинально спросила Софья, никак не вникая в смысл его слов.
– Ну… это просто символ. Если тебе дарят мяч, ты должна устроить угощение и танцы.
– Но у меня нет с собой денег, – испугалась Софья.
Никита рассмеялся:
– Это просто обычай такой. Здесь нас накормят задаром.
– Ты прости, Никита, я ничего не понимаю. Ты мне потом расскажешь. Ладно? – взмолилась Софья и замерла: перед ними был танцевальный, полный народу и музыки зал.
Кавалеры и дамы уже выстроились в две шеренги. Пьемонтец Санти – маленький, важный, роскошный, взмахнул рукой, и тут же на нежнейшей ноте запели альты. Дамы присели в глубоком реверансе, кавалеры склонились в поклоне, а затем, возглавляемые придворным балетмейстером Ланде, поплыли в благопристойном менуэте. Об этом прекрасном танце недаром говорили – нижняя часть порхает, верхняя плывет.
Никита только успел пробежать глазами по зале, найти в числе танцующих Сашу и Анастасию, как Софью увел в танце долговязый и печальный юноша в трико Амура и с крылышками за спиной.
Государыня тоже танцевала. Благодаря подсказке Анастасии Никита сразу увидел голландского шкипера. Простонародный этот костюм так ловко сидел на государыне, шерсть камзола была так благородно ворсиста, что понятно было – здесь не обошлось без знакомого купца, который поставлял лучшие товары из-за границы.
Елизавета не любила этикета, не желала быть узнанной, и приглашенные, которые тут же осведомлялись, в коем она будет костюме, выказывали свое уважение в странной и подобострастной манере. Вроде бы и кланяться нельзя, а ноги сами подгибаются. Но Елизавета не замечала всех этих странных ужимок. Это маскарад, а не какая-нибудь скучная ассамблея, введенная батюшкой. И не чопорный бал Анны Иоанновны, на котором все тряслись от страха пред жестким взглядом государыни и ее внезапной, предвещающей опалу жесткой усмешкой. Это маскарад, и главное, чтобы здесь было весело, наслаждайся жизнью, музыкой, светом, любовью – вот девиз Елизаветы.
Мимо Никиты прошла в танце Софья, хорошенькая, возбужденная, в поднятой на лоб, похожей на бабочку маске. Печальный Амур был явно без ума от дамы, он даже устроил некоторую путаницу в фигурах, чтобы не разлучаться с прекрасной венецианкой. Никита искренне его пожалел.
– А великая княгиня будет сегодня в розовом, – раздался над ухом шепот.
Никита резко обернулся. Перед ним стоял слегка хмельной, насмешливый и счастливый Саша.
– Фу-ты, напугал!
– В руках лук, в волосах месяц. Стало быть, Артемида-охотница, – продолжал Саша, весьма довольный эффектом. – Воинственная дева! – Он поднял палец.
– Среди танцующих ее нет. Я бы ее и под маской узнал…
– О нет… За четыре года она очень изменилась, – бросил Саша и опять куда-то исчез.
Никита пошел бродить по анфиладам комнат. В китайской гостиной расположилась большая компания молодежи. Щупленький кавалер в огромном пудреном парике, картавя и отчаянно жестикулируя, рассказывал пикантную историю. Каждая его фраза встречалась дружным хохотом. Какая-то парочка страстно целовалась за шторой. Стоящий навытяжку гвардеец внимательно прислушивался к жаркому влюбленному шепоту и косил глаза в сторону. В следующей гостиной у камина стояли двое, и то, что они не кричали, не дурачились, а о чем-то негромко беседовали, придавало этой, наверное, самой банальной беседе деловой и таинственный характер. При появлении Никиты они вдруг смолкли и принялись рассматривать стоящие на камине дивной работы часы, украшенные перламутром и черепахой. Никита еще потому задержал взгляд на этой паре, что костюм на одном из них был очень похож на его собственный. Ушастый бархатный берет незнакомца был украшен сверху небольшой пуговкой, и Никита машинально ощупал свой берет: неужели и у него там пуговка? Так и есть, видно, костюмы были взяты в одной мастерской. Внезапно один из мужчин круто повернулся и вышел. Никита так и не увидел его лица, только запомнил широкую, обтянутую бордовым атласом спину и парик с темным бантом.